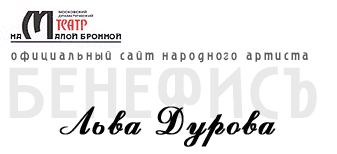Новую попытку сценического истолкования Чехова предпринял Анатолий Эфрос. Два его спектакля — «Чайка», поставленная в Московском театре имени Ленинского комсомола, и «Три сестры», сыгранные в Драматическом театре на Малой Бронной, — вызвали споры, быть может, чересчур страстные и «крайность мнений» совершенно очевидную. Спектакли эти всех поразили взвинченной крикливостью тона, крайней резкостью, даже склочностью взаимоотношений, болезненной их остротой. Как часто бывает в подобных случаях, одни говорили о гениальности, а другие — о кощунстве, одни — об удивительной утонченности, другие — о возмутительной грубости. В пылу полемики одна сторона не желала замечать —или сбрасывала со счета, списывала по разряду досадных мелочей — явные и существенные неудачи, а другая сторона, в ослеплении гнева, не видела столь же явных находок.
Новую попытку сценического истолкования Чехова предпринял Анатолий Эфрос. Два его спектакля — «Чайка», поставленная в Московском театре имени Ленинского комсомола, и «Три сестры», сыгранные в Драматическом театре на Малой Бронной, — вызвали споры, быть может, чересчур страстные и «крайность мнений» совершенно очевидную. Спектакли эти всех поразили взвинченной крикливостью тона, крайней резкостью, даже склочностью взаимоотношений, болезненной их остротой. Как часто бывает в подобных случаях, одни говорили о гениальности, а другие — о кощунстве, одни — об удивительной утонченности, другие — о возмутительной грубости. В пылу полемики одна сторона не желала замечать —или сбрасывала со счета, списывала по разряду досадных мелочей — явные и существенные неудачи, а другая сторона, в ослеплении гнева, не видела столь же явных находок.
Прошло уже несколько лет с тех пор, как появились эти спектакли и вспыхнули эти споры. Можно попытаться взглянуть на чеховские постановки Эфроса более трезво и увидеть их в общей перспективе сценической истории Чехова.
Конечно, спектакли Эфроса предлагали совершенно новый и непривычный подход к Чехову — потому-то и вызвали такой взрыв страстей. Тем не менее, «Чайка» Эфроса в 1966 году стала возможна только после «Иванова» Бабочкина и «<Трёх сестер» Товстоногова. Трагизм этих сильных и мучительных спектаклей Эфроса не удовлетворил, их надсада и боль показались ему слишком умеренными. Он сразу взял более высокую ноту и движением властным, смелым — приблизил «Чайку» к себе.
Пьесу эту он ставил так, будто ее только вчера написал специально для него, для Эфроса, молодой начинающий драматург. Речь шла не об интерпретации Чехова— такой или сякой. Речь шла о дальнейшем развитии — на новом драматургическом материале — идей, которые волновали Эфроса, когда он ставил пьесы Розова и пьесу Э. Радзинского «Снимается кино». Тут, в «Чайке», пересекались две существенно важные для Эфроса темы — розовская тема бескомпромиссной юности, врезающейся в устоявшуюся и полную компромиссов «взрослую жизнь», и тема несовместимости таланта с фальшью, с приспособленчеством, так драматично прозвучавшая в спектакле «Снимается кино». Обе эти темы с увлекательной, хотя и несколько обманчивой естественностью сливались в фигуре Треплева, и «Чайка», написанная задолго до рождения Розова и Радзинского, должна была, вероятно, поднять их — и режиссера — размышления о молодости и таланте на новую, не доступную ни Розову, ни Радзинскому высоту. Чехов привлекался для утверждения уже выношенных и наболевших мыслей — можно было, казалось, не сомневаться в том, что чеховское мироощущениё совпадает с мироощущением режиссера и что в итоге получится мощный и живой современный спектакль.
Для Эфроса главная проблема была в Треплеве. Он видел перед собой юношу, почти мальчика, только начинающего жизненный и творческий путь в условиях, максимально неблагоприятных для молодого дарования, в среде, совершенно равнодушной к подлинному искусству и, значит, к его новаторским исканиям. В пьесе Треплеву двадцать пять лет, в спектакле ему было восемнадцать, от силы—двадцать. Главное столкновение формулировалось сразу и безоговорочно: мальчик намерен стать новым поэтом и с понятной экзальтацией заявляет о своей великой миссии, но его никто не слышит и не услышит.
Спектакль начинался весьма неожиданно: никакого колдовского озера, никакой листвы дерев, никакой усадьбы, вся сцена заполнена свежим тесом. Из новеньких досок выстроен высокий помост для исполнения пьесы Треплева. Остальная часть сцены наглухо отгорожена от всего мира забором из того же грубого теса. Дерево — простое, чистое, здоровое — отчетливо противостояло нездоровым, капризным, нервным и совсем непростым отношениям людей, являвшихся на этом фоне.
Доски были ,некрашеные, от них пахло новизной и бодростью. От людей же веяло слабостью и неврастенией. Атмосфера, в которой Треплев должен был демонстрировать свой первый опус, сразу обозначалась как атмосфера вздернутых чувств и накипевшего раздражения. Треплев — В. Смирнитский мотался и метался по деревянному помосту, затем неловко, почти судорожно балансируя, шел по доске, потом даже ложился на спину и, лежа, страдая, говорил о пошлости Эйфелевой башни. Затем вскакивал и кричал, что нужны новые формы, а если их нет, то лучше ничего не нужно. Детское, неустойчивое и слабое "было выражено в Треплеве с полной откровенностью. Столь же откровенно и сразу высказано было и мрачное предчувствие —помост, построенный художниками В. Лалевич и Н. Сосуновым, напоминал эшафот.
А. Эфрос отверг устоявшееся представление об относительно умеренной комнатной температуре чеховских пьес, повысил тонус, взвинтил ритм, обострил ситуации. Классический «чеховский разговор» распался, изо всех углов сцены послышались вопли, крики, стенания, истерические всхлипы. От этого родилось ощущение склочного быта коммунальной квартиры. Е. Полякова писала в рецензии на «Чайку»: «Они толкутся вместе, живут рядом десятками лет, и это привело их не к доброму согласию, а к непрестанному и тяжелому раздражению»1. Именно так. Все раздражены, взаимно грубы, живут в состоянии постоянной и почти радостной готовности к ссорам, все кричат. Каждый из этих людей ходил по краю своей истерики, вот-зот сорвется в нее, а вот и сорвался. Е. Полякова объясняла эту их раздражительность отсутствием «того, что называется целью жизни».
Для многих такое объяснение оказывалось приемлемым. Маша, например, была приведена А. Дмитриевой к безысходному отчаянию, горькая и покорная любовь к Треплеву ее ожесточила, огрубила. Медведенко — .". Дуров, в свою очередь озлобленный безответной любовью к Маше, давно уже стал назойлив, раздражителен. Дори в исполнении А. Пелевина всякую фразу произносил, петушась и кипятясь... Его постоянно сердила собственная беспомощность, невозможность что-либо исправить, кого-либо излечить: вокруг него собрались неизлечимые люди, один только Треплев подавал какие-то надежды, но — Дорн это видел — был слишком хлипок, по-детски плаксив. Для Сорипа — А. Вовси вся «цель жизни» исчерпывалась жалобами: он уже знал, что упустил время радости и удовольствий, бессилы-го роптал, ворчал и негодовал по этому поводу и, конечно, искал виноватых. Шамраев — В. Соловьев носил по сцене свои уникально длинные усы и рассказывал анекдоты, которых никто слушать не желал.
Все эти люди, потерявшие смысл существования, были враждебны Друг другу. Линии вражды, прямые, как стрелы, соединяли Дорна и Сорина, Машу и Медведенко, Шамраева и Аркадину. Спектакль был прорезан этими прямыми линиями, и стоило только Дорну завидеть Сорина, как вспыхивала злобная, крикливая перебранка, чуть ли не драка. Актеры героически хранили верность режиссерским указаниям, самоотверженно оставались каждый в пределах предназначенной ему функции.
Однако чеховские роли были для всех велики, роли висели на плечах персонажей спектакля, будто костюмы, сшитые «на вырост». Увы: персонажам не полагалось подрастать, человеческая мерка была сразу задана, обужена и занижена. У Чехова Сори,н сердечно сочувствует Треплеву, Сорин просит сестру дать Треплеву денег. В спектакле эта просьба—только повод, чтобы заговорить о себе. В пьесе Дорн не только сочувствует Треплеву, но и понимает его. В первом акте «Чайки» Дорн хвалит пьесу Треплева, Треплев же «крепко жмет ему руку и обнимает порывисто». В спектакле Дор|н произносил слова похвалы, нетерпеливо отталкивая от себя всхлипывающего, плачущего Треплева. В этих режиссерских коррективах проступала суровая целеустремленность: огрубляя «других», не желая вникать во внутренний мир какого-нибудь Сорина или Дорна, рассматривая их как людей духовно узких и мелких, Эфрос тем самым усугублял и обострял трагедию Треплева, обрекал его на полное одиночество.
Такой метод повлек за собой некоторые, вероятно, неизбежные утраты. Концепция, более близкая, как сказано уже, к Розову или Радзинскому, нежели к Чехову, странным образом вдруг стала сдвигаться в очень далекое прошлое. Режиссера многие упрекали в «модернизации» Чехова — с этим можно согласиться только отчасти, только в том'смысле, что современного звучания пьесы он добивался. Но результаты иногда вовсе не совпадают с намерениями. Треплев, которого очень искренне и горестно играл В. Смирнитский, воспринимался, как подросток стародавних, быть может, еще дочеховских времен.
Возможен ли Чехов без берез и вязов, без колдовского озера, без лирики и без пауз, без чеховской будничности, без внешне спокойных и только внутренне драматичных форм, когда люди обедают, только обедают, носят свои пиджаки, а в это время разбиваются их сердца? В принципе все это может быть. Однако в Чехове есть нечто «нерастворимое», собственно «чеховское», то, отчего отказываться нет смысла. Речь идет о принципиальной чеховской объективности, которая и создает особую природу его драматургии, которая и вызывает к жизни многозначную -полифонию его пьес.
В пьесе Чехова Треплев для всех остальных персонажей — сложная, мучительная проблема. В спектакле все относились к Треплеву просто, то есть плохо. Симпатии, обозначенные автором, снимались актерами во имя одной идеи: как можно резче, как можно сильнее подчеркнуть полную замкнутость Треплева в себе, загнанность в себя,в собственный внутренний мир. Поэзия и любовь всеми воспринимались как претенциозность и каприз. Едва уловимые нотки сочувствия, все же звучавшие, слабо и мимолетно, у Дорна — А. Пелевина и Аркадиной — Е. Фадеевой, в принципе ничего изменить не могли. Противостояние получалось такое резкое, что Треплев и впрямь выглядел капризным подростком среди раздраженных и нервных взрослых людей.
Самой взрослой и самой дальновидной оказывалась в этом мелодраматическом противостоянии Нина Заречная в исполнении О. Яковлевой. Роль Нины строилась как прямая антитеза роли Треплева. Он был возвышенным, но совершенно непрактичным, она — чрезвычайно практична и ничуть не озабочена высокими помыслами. Треплев слаб настолько, что талант его почти незаметен. Заречная так сильна, что кажется даровитой. Он — сама пассивность, она — сама целеустремленность. Он — почти ребенок, она — зрелая женщина. В спектакле мы видели провинциальную мещаночку, вполне деловитую, напористую, беззастенчиво повторяющую — к месту и не к месту — одни и те же зазывные интонации, особу глупенькую, но «себе на уме», миловидную, но хищную, настойчиво старающуюся отвоевать себе место в искусстве и в жизни.
Эффектно и картинно — вся в черном — появлялась эта Заречная в начале спектакля. Она с приятной робостью, едва заметно показывая, что текстом несколько удивлена и смущена, стоя на коленях на краю помоста, произносила треплевский монолог о людях, львах, орлах и куропатках. Хрупкая, но лишь внешне, ломкая, но из кокетства... Когда Треплев, непонятый, оскорбленный, прерывал ее монолог, она вполне благовоспитанно, «не замечая» его боли и гнева, присоединялась к озадаченной «публике» и старалась понравиться Тригорину и Аркадиной. Стремительная и мобильная, Нина мало интересовалась уже завоёванным Треплевым и тотчас устремлялась на штурм столичной знаменитости... Можно было гадать о том, как сложится её карьера, но нe о том, каким будет её искусство. Режиссёр продуманно и не без сарказма корректировал эту роль — от чеховского замысла почти ничего не оставалось, зато вполне современная агрессивная дамочка сразу показывала свои коготки.
В большой сцене с Тригориным Нина Заречная совершенно очевидно не понимала и не старалась даже понять, что он там говорит о своих творческих муках, но столь же очевидно притворялась, что все донимает, что восхищена и покорена, что уже влюблена и почти не владеет собой. «Сюжет для небольшого рассказа» читался наоборот: не Тригорин соблазнял Нину, а Нина его. атаковала и соблазняла, умышленно принимая позы одна другой живописнее и все время что-то обещая воркующими интонациями. Заречная верила в себя, в свою звезду. Уточним: не в свой талант, а в свою женскую привлекательность. Чисто режиссерский финал этой сцены, когда Нина яростно размахивала удочкой, демонстрируя слегка ошеломленному Тригорину свой бушующий темперамент, был, конечно, находкой. Агрессивная и грозная женственность Нины Заречной шла войной на Аркадину, на ее красоту, уже поблекшую, на ее артистичность, слишком профессиональную, чтобы быть все еще привлекательной для Тригорина.
Маленькая юная фурия, со свистом рассекавшая воздух, гибким удилищем, являла собой как бы символ беззаветной готовности сокрушить любые препятствия. Тема женского самоутверждения выступала на первый план, и Нина, так рано умудренная жизнью, так дерзко и. смело устраивавшая свою судьбу, оказывалась главной бедой влюбленного в нее молодого мечтателя, у которого еще молоко на губах не обсохло. Между Треплевым и Заречной, юным поэтом и юной хищницей, в этом спектакле не было ничего общего, его любовь к ней разлетелась не по адресу.
Н. Берковский писал, что в чеховской «Чайке» «два поколения. Одно доживает, а другое хочет и не может вступить в настоящую жизнь. Тригорин, Аркадина—люди устаревшие... Беда Треплева, что Тригорин при всех слабостях его, покамест все же сильнее, чем Треплев...»1. В спектакле вся эта система фигур изменилась и сдвинулась. Заречная отделилась от Треплева, как бы перешла,— сохранив силу и храбрость юности, но утратив чистоту, веру, идеалы, — в мир профессионалов от искусства, в мир Тригорина и Аркадиной. И там, в «другом лагере», стала, конечно, самой большой опасностью для Треплева, ибо, во-первых, он был в Нину самозабвенно влюблен, а она ловко и уклончиво отстранялась от этой Любви, ибо, во-Ёторых, Нина превосходила и Тригорина и Аркадину откровенностью своего эгоизма. Те — пусть по-своему, пусть по старинке, но любили искусство. Она же любила одну себя, свои будущие триумфы.
Рядом с этой Заречной Тригорин -искренне страдавший от сознания, чтб всегда будет писать «хуже Тургенева», искренне мучившийся между двумя женщинами — к одной влечет, другую жаль, — казался в мягком и обаятельном исполнении А. Ширвиндта безобидным и вялым идеалистом. Ощущение, что он «сильнее, чем Треплев», пожалуй, вовсе и не возникало. Само сопоставление Тригорина и Треплева в этом спектакле утрачивало всякий смысл, становилось бессодержательным. Аркадина же была поставлена Ниной Заречной в позицию вынужденно оборонительную. Так некстати приглашенная сыном смазливенькая провинциалочка грозила сразу разрушить весь мир Аркадиной, и без того достаточно шаткий. В интонациях Е. Фадеевой, иногда крикливых, даже визгливых, чаще всего сквозила горечь, в ее позах и движениях виделась усталость. Все в жизни Аркадиной было неустойчиво: молодость уходила, сил и денег становилось все меньше, любовь нужно было завоевывать снова и снова, свое право играть любимые роли надо было всякий год доказывать заново, и аргументы, вероятно, теряли свою убедительность. Заречная возникала перед Аркадиной во всей пугающей силе жестокой юности, готовая действовать без колебаний, очертя голову. Умная женщина, стареющая возлюбленная и, увы, плохая мать, Аркадина прекрасно понимала, что Заречную ей не одолеть.
Единственный шанс обещало ей только свойственное Заречной тщеславие, которое, бог даст, рано или поздно отпугнет Тригорина и разочарует сына.
Спектакль, начатый в дощатой пустоте, продолжался в комнате, битком, до отчаяния, забитой вещами. Буфеты, шкафы, секретеры, стулья и кресла лезли на зрителей. Самые разнообразные лампы торчали во всех углах. Добрые три десятка картин висели по стенам вплотную друг к другу. Как ни странно, громоздкий и грузный вещный мир не выглядел ни устойчивым, ни надежным. Скорее, в нем ощущались какая-то мрачная сдвинутость, предвестие катастрофы. Людям было тесно, неловко, нелепо с ди всех этих обнаглевших вещей, среди их бестолочи и сумбура. Здесь стремительно и ловко двигалась одна Заречная. Остальные ходили осторожно, она Металась й порхала, будто летучая мышь, между шкафами и буфетами, выглядывая то из одного угла, то из другого. Но если в начале спектакля ее мобильность означала безоглядную предприимчивость, то к концу спектакля подвижность Заречной воспринималась иначе — как агония.
Это была быстрота и суетливость последних попыток увернуться от справедливого возмездия. В развязку судьбы Нины Заречной режиссер внедрял поучение, вкладывал морализаторский смысл. Порок получал причитавшееся ему наказание: Нина раздавлена жизнью, унижена и больна, и место ей — навек в елецком театре, где нет ни искусства, ни славы, ибо перед такой Ниной, какую сыграла О. Яковлева, Тригорин ни в чем не повинен, ее же вина перед Треплевым огромна, непоправима, и потому Эфрос ее не жалел, сожаление он хотел бы полной мерой отдать Треплеву.
В «Трех сестрах», поставленных позже (1967), избирательность режиссера обнаружила себя с еще большей силой. Если «Чайка» решалась по принципу '«все против Треплева», то «Три сестры» виделись глазами Трёп-лева, вся драма рассматривалась с позиций юношеского идеализма: неприязненно, взглядом разочарованным и горьким.
Вершинин и Тузенбах раньше других попались на глаза режиссеру и сразу показались ему излишне говорливыми. Известные слова Горького о том, что это «рабы темного страха перед жизнью», которые «только наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места», внезапно совпали с его, Эфроса, собственным ощущением пьесы. Во всяком слу-_ чае, идеализировать и поэтизировать этих персонажей не хотелось.
Некоторым принципам, опробованным в «Чайке», режиссер остался верен. Не нужно полутонов, оттенков; капризов настроения и атмосферы, «чеховщины», нужны новые формы, резкость и прямота.
Более или- менее плавному течению месяцев, дней и часов было противопоставлено чувство сжатости, уплотненности времени. И хотя- спектакль, вопреки нынешним театральным привычкам, шел с тремя антрактами, впечатление все же возникало такое, будто все события пьесы совершились в один день. По ходу спектакля персонажи его не менялись. Они вели себя так или иначе, но время сквозь них не проходило. На край просцениума были многозначительно выставлены неподвижные часы без стрелок.
Драма же разыгрывалась очень бурная. Всякая заминка превращалась в ссору, недоразумение—в скандал, неловкость — в бурную вспышку.
Вот Чебутыкин принес свой знаменитый самовар. Маша улыбнулась, Ирина, смутясь, сказала: «Зачем такие дорогие подарки?» В спектакле Тузенбах вдруг схватил самовар и кинул его Соленому, все весело рассмеялись, снова водрузили самовар на авансцене. Но Чебутыкин уже взбеленился, закричал визгливо и дико, пнул самовар ногой. Самовар упал, со звоном покатилась в сторону крышка, сестры испугались. Потом все стихло и улеглось...
Вот впервые появилась Наташа, как известно, в розовом платье, как известно, с зеленым поясом. Правда, в этом спектакле пояс у нее «не зеленый, а скорее матовый» — такой, каким видит его сама Наташа. Ольга с ее укоризной: «На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо!»— в спектакле была, во-первых, неправа, а во-вторых, бестактна, ибо свое замечание произносила в полный голос, чтобы все слышали, и, значит, компрометировала Наташу перед Ириной, перед Чебутыкиным, а -главное, перед влюбленным Андреем. Реплика Ольги превращалась в целое событие, которое характеризовало ее не самым лучшим образом. .
Начало второго акта разыгрывалось Андреем и Наташей на тахте, выдвинутой к самому краю сцены. Режиссерская партитура, разработанная с чрезвычайной тщательностью и веселым разнообразием, показывала тщетные попытки Наташи обольстить собственного мужа. В хорошеньком пепельно-сером пеныоарчике Наташа резвилась, обнимала Андрея, прижималась к нему, душила его в объятиях, раскидывалась на тахте. Он пытался спастись в качалке, но возбужденная Наташа настигала его и там, жалась к нему, щекотала его. Увы! Все ее усилия были безуспешны. Самые откровенные приглашения к любви оставались незамеченными. Уклончивость Андрея обеспечивала Наташе полное моральное право на «романчик с Протопоповым».
Во втором же акте, когда Вершинину приносили записку о том, что жена его «опять отравилась», и он торопливо уходил, раздосадованная Маша сперва ни с того ни с сего громко и грубо кричала на няньку Анфису, потом мчалась в глубину сцены и устраивала там полный разгром: кого-то ругала, что-то швыряла...
В третьем акте, во время пожара, когда усталый Ку-лыгин прилег рядом с ней на тахту, Маша тотчас одним решительным и грубым движением сбросила мужа на пол.
Столь резкие и энергичные режиссерские акценты все время взнуздывали действие, которое то неудержимо мчалось, то вдруг замирало в откровенно условной сценической среде.
Оформление спектакля стилизовалось В. Дургиным в духе русского модерна 900-х годов. Решение, многословное и дробное, было необычно и своей нейтральностью по отношению к месту действия — не комната в доме Прозоровых, не сад возле их дома, а просто сцена, где играют. (Кроме того, оно было занимательно своей стилистической двойственностью. С одной стороны, использовались самые скромные мотивы модерна —орнамент почти как в интерьере Художественного театра, с другой стороны—самые буйные и пышные прихоти стиля — извилистые, томные, подражающие лианам линии и золотые листья эффектного дерева в центре сцены. Такое дерево мыслимо было только в ресторанном зале" Красота получалась с пошловатым оттенком. По мере движения к финалу зрелище становилось все более нарядным. Главный декоративный элемент, с помощью которого эта нарядность нагнеталась и усугублялась,—платья трех сестер, все одинаковые, сначала зеленые, потом пепельно-серые, наконец, черные полосатые, траурные и роскошные. Сестры не просто носили эти платья, они их вносили на сцену. Великолепная маскарадная униформа уравнивала своих носительниц, настаивала на их похожести, если не идентичности, но и на их внешней красоте. Антикварная пышность модерна и вызывающая изящность женских нарядов по концепции этого спектакля создавали резкий враждебный контраст с намозоленными, раздраженными человеческими отношениями, со всей захолустной, шершавой и замусоренной жизнью персонажей. Дерево пусть будет золотое, а люди, что ж, люди жалкие.
Теснясь посреди всех этих роскошеств столичного модерна и будто умышленно ими пренебрегая, на сцене шла психологически безысходная, загнанная на самый край света, изнывающая от скуки и неприкаянности, бездельная и бессмысленная гарнизонная жизнь. Люди не жили,а мыкались из угла в угол, изнемогая друг от друга и от самих, себя.
Барон Тузенбах в ироническом исполнении Л. Круглого все время фиглярствовал, издеваясь над собой, над своими речами, над своим автоматическим заученным краснобайством. В первом акте, согласно режиссерской партитуре, барона несла за собой музыка вальса. Он напевал и пританцовывал, пританцовывал и напевал. Во втором акте барон был тяжело пьян. В третьем акте его валило в сон. Все время пребывая в несколько ирреальном состоянии, он шутовски, с демонстративной экзальта-^ цией пародировал монолог о труде, по которому тоскует. Другой большой монолог о том, что жизнь не меняется, о том, что журавли как летели, так и будут лететь, Тузенбах произносил в пьяном бреду. Слова тут ничего не значили, он сам едва ли понимал, что говорил.
Накричавшись, Тузенбах — Круглый как-то сразу скисал и на резонный вопрос Маши: «Все-таки, смысл?»-— вдруг отвечал очень серьезно и хмуро: «Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?»
В этой хмурой и неожиданно ответственной фразе было дано быстрое и внушительное объяснение всей роли. За пьяным гаерством и взвинченной самопародией пряталось — и вот выглянуло — мучительное безверие. В этот самый миг менялось и наше отношение к Тузен-баху. До этого момента мы, повинуясь воле режиссера, относились к Тузенбаху едва ли не презрительно. Когда стало ясно, что за его сбивчивой шутовской и позерской фразеологией скрываются отчаяние и тоска, тотчас его дерганая фигурка стала по всем законам трагической клоунады вызывать острую жалость.
Столь же скептически был поначалу воспринят и Вершинин. Н. Волков играл серенького, незначительного гарнизонного человека, вялого и стеснительного, совершенно ошеломленного красотой Маши, сразу в нее влюбившегося и силой этого внезапного чувства выбитого из привычной жизненной колеи. Вершинин — Н. Волков говорил красивые слова о будущем и о судьбах человечества не потому, что он что-нибудь подобное думал, а потому, что он что-то такое слышал и любовь обязывала его говорить красиво. Однако та же любовь делала его косноязычным, он смущался, стеснялся «философствовать» всерьез, застенчивость и влюбленность мешали ему сосредоточиться, говорить логично, поэтому свои возвышённыё фразы он комкал, мял, бормотал, произносил хмурой и вязкой скороговоркой.
Таким образом, все попытки Вершинина и Тузенбаха задуматься о содержании собственной жизни, все их покушения осознать настоящее и заглянуть в будущее, понять, для чего, собственно, они живут на свете, были исполнителями этих ролей тщательно забраны в кавычки: пародийные у Круглого, меланхолически-стыдливые у Волкова. Патетика отменялась, возвышенность и красивый строй души ставились под сомнение даже в .чеховском, самом сдержанном и недоверчивом по отношению ко всякому пафосу варианте. Офицеры, которые принесли с собой в этот город увлекательные речи, мечты, благородство, здесь сами себе не верили. Попутно и неизбежно они лишались интеллигентности. Интеллигентных людей вовсе не было в этом спектакле.
Несостоятельность Тузенбаха и Вершинина устанавливалась изначально. Можно было посмеиваться над этими офицерами, можно было их жалеть, но верить им не стоило. Их духовная расслабленность, их неспособность к действию становились главными чертами печальной и обличительной характеристики. Но если все речи этих персонажей намеренно проговариваются как незначительные, то на первый план обязательно должна выступить и выступила фабульная сторона пьесы. Действие торопилось туда, где любовь.
В «Трёх сестрах» ведь тоже великий груз «пяти пудов любви», и любовные треугольники пьесы все выстроены так, что женщина оказывается между обаянием духовной красоты (пусть относительной) и духовной нищетой (увы, безусловной): Маша между Вершининым и Кулыгиным, Ирина между Тузенбахом и Соленым, Наташа между Андреем Прозоровым и Протопоповым. Но эта выразительная геометрия чеховской пьесы обретает жизненную емкость благодаря речам ее персонажей, речам, имеющим двойной, а то и тройной {из-за эмоционального подтекста и силы философских обобщений) переменчивый и подвижный смысл. Как только самовыражения говорливых мужчин ставятся под сомнение, берутся в кавычки, тотчас у женщин отнимаются все иллюзии, всякая возможность приобщиться к мечтам или к тоске по лучшей жизни. В спектакле сестры Прозоровы были поставлены именно в такие условия: им оставалось только неотвязно думать о любви, устраиваться так или иначе.
Эта горестная ситуация определяла и нравственный облик сестёр и их человеческий масштаб. У Чехова Вершинин говорит, что таких женщин, как сестры Прозоровы, «в городе теперь только три». У Эфроса в спектакле перед нами оказались женщины вполне заурядные, не лучше и не хуже других, таких могло быть множество.
Режиссёр обвинял чеховских мужчин в том, что они своим бессильным, вымученным и банальным краснобайством сбили с толку, обманули, едва ли не погубили симпатичных простодушных сестер. Ирина, полудевочка, стала капризной, манерной, утомленной, с явственным привкусом декаданса. Эмоционально щедрой, грубовато решительной Маше любовь к Вершинину принесла одно только надрывное отчаяние. Твердую, морально стойкую Ольгу драмы сестер выбили из состояния душевного равновесия, она стала смятенной, растерянной. Быть может, всего убедительнее вина мужчин доказывалась тем, что женщинам вовсе не дано было радости: женщины1 метались, томились, скучали, нервничали, плакали, ссорились...
Возвышенные слова, опустошенные и измятые, причинили реальный вред и ощутимую боль. Надо сказать, что проступившее в этом спектакле раздражение против говорунов, у которых ничего, в сущности, пет за душой, у которых все слова давно изношены, стали общими местами из-за бездельного и бессмысленного повторения, обладало определенной актуальностью. Тем не менее спектакль, проникнутый желчной иронией над размышляющими, рассуждающими и к делу неспособными, обладал все же неискоренимыми внутренними противоречиями. Иронии, как известно, все подвластно. Стоило, однако, чеховским персонажам хоть одну фразу произнести искренне, серь-- езно, а таких моментов режиссер избежать не мог, да и не хотел, — и тотчас души героев обнажались, взывая к соучастию и жалости, слова их вызывали прилив сочувствия, и вся ироническая режиссерская партитура волей самого Эфроса разрывалась, расступалась, открывая дорогу внезапной экспрессии, резкой и обжигающей боли.
Самым сильным эпизодом спектакля стал монолог пьяного Чебутыкина в третьем акте.
Мешая хохот с рыданиями, вылетал на сцену Чебутыкин —Л. Дуров, маленький измятый человечек, тискающий в руках свой форменный кителек. Бороденка всклокочена. В глазах сатанинская ожесточенность. Что-то в нем бушевало, искало выхода, какая-то нервная энергия скопилась и жаждала разрядки... Он злобно ругался: «Черт бы всех побрал... подрал...» Вдруг взгляд его падал на золотую трубу граммофона, все время торчавшую в левом углу сцены. Будто вихрем его к граммофону подкинуло, будто сама собой рука включила разухабистый мотивчик... И помчался, полетел маленький Чебутыкин в отчаянной пляске, поглядывая то и дело в тусклое, мертвое зеркало, дергаясь и кривляясь, судорожно выкрикивая: «А только вот делаю вид, что у меня и руки... и ноги... и голова...» Приплясывая, он тревожно искал там, в мертвенной застывшей зеркальности, руки, ноги, голову, находил и нащупывал все эти предметы, именно только предметы, но вовсе не успокаивался, напротив. Нет, он бесновался еще пуще, чувствовал, что в пляске этой развинчивается, раздваивается, рассыпается, и гневно, требовательно исторгал отчаянный вопль: «О, если бы не существовать!!!» В этот момент музыка вдруг замолкала, кончился завод. Чебутыкин останавливался в полной растерянности, весь обмякал, обвисал, его словно выключили. Но тотчас догадывался, снова кидался к спасительному граммофону, музыка вновь взвивалась, и его опять начинал дергать и бешено трясти скачущий, галопирующий ритм. Трагическая эксцентриада всей этой сцены выглядела совершенно несовместимой с привычными представлениями о чеховской манере и чеховском стиле. Современная по выразительности, она вызывала в сознании характернейший, но болезненно обостренный мотив жизни инертной, вялой, пассивной и судорожно, конвульсивно вздрагивающей постольку, поскольку она получает извне толчки и импульсы к действию. Марионетка, судорожно дергающаяся под музыку, без этой музыки дохлая, неживая, поднимала голос протеста и негодования против собственной участи, требовала оправдания и объяснения смысла своего существования. Чеховская тема, синкопированная, ритмически видоизмененная до неузнаваемости — и потому от Чехова далекая, окрашенная чуждой Чехову истеричностью, — сама по себе звучала сильно.
Напротив, фигура Солёного торжественно и плавно отодвигалась вдаль, обретала внушительную монументальность. С. Соколовский играл человека, полного достоинства и самоуважения. Если и тут предполагался некий иронический подтекст, то он был запрятан слишком глубоко. Всякое слово Солёного принималось всерьез, каждая фраза звучала веско и меланхолично. Странные шутки Солёного окутывались флером сумрачной печали. Он скажет что-нибудь этакое («если же философствует женщина, или две женщины, то уж это будет — потяни меня за палец») тоном спокойным, плавно, не повышая голоса, и в заключение улыбнется горько и загадочно. В глупости его был какой-то важный, скрытый от партнеров и от зрителей второй план и второй смысл. Возникал вопрос: а может, это и не глупость вовсе? Вокруг Соленого все дергались, ломались, он один говорил и двигался с чрезвычайным чувством такта и меры, с медлительной грациозностью. Неторопливо, элегантно закуривал. В ответ на сюсюканье Наташи по поводу необыкновенного Бобика замечал вовсе не шутя, а с какой-то чудовищной вдумчивостью: «Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы». Выяснялось вдруг, что он один способен и разгадать и одёрнуть Наташу.
Среди всех персонажей спектакля один Соленый был не болтун. В бесконечных мужских разглагольствованиях и словопрениях он участвовать не желал. Более того, он едко пародировал бессодержательные разговоры Вершинина и Тузенбаха о смысле жизни. Все его нелепые изречения на самом-то деле — умышленные пародии. Он оказывался выше болтовни. Перед Ириной — О. Яковлевой возникала, надо сказать, отчаянная альтернатива: величественный, как статуя Командора, меланхоличный Соленый или плюгавый, болтливый фигляр Тузенбах. Любое решение было бы несчастьем. Причем судьба Ирины, такая злая, отнюдь не казалась исключительной. Напротив, к последнему акту все судьбы подкатывались, как волны к скале, — тут их ждала гибель, тут они неминуемо должны были разбиться, разлететься красивыми брызгами, чтобы уж никакой надежды ни у кого не осталось.
Сцены прощаний и эффектные уходы в последнем акте строились именно с этим господствующим ощущением и с этой целью: показать, как красиво погибают некрасивые человечки. Пафос разоблачения сменился пафосом запоздалого сожаления. Тузенбах снимал свою клоунскую маску для того, чтобы разыграть сильно и драматично сцену прощания с Ириной. Прорывались сразу и страх перед смертью и мука чувства отвергнутого, так и не понятого, слишком долго гримасничавшего и только вот сей час заговорившего откровенно и просто. Слишком поздно! Тузенбах слишком долго шутки шутил, слишком настырно ломался, потешая и нас и Ирину... Он и сам это, видимо, понимал. Во всяком случае, Л. Круглый, уходя, вновь шутовски раскланивался из глубины сцены.
Можно было бы сразу давать занавес. Вообще, конец каждой роли акцентировался так сильно, словно кончался весь спектакль. Последний акт шел как вереница режиссерских финалов — их тут хватило бы на дюжину пьес. Как бы под занавес говорил Вершинин, мучительным движением отталкивая от себя Машу: «Ольга Сергеевна, возьмите ее...» Как бы под занавес в трансе твердила обезумевшая Маша свое «У лукомюрья». Как бы под занавес сухо и небрежно сообщал Чебутыкин: «Сейчас на дуэли убит барон» — и порывисто, в ужасе вскидывалась Ирина: «Я знала, я знала...» Полосатые, роковые, трагические черно-белые длинные платья трех сестер перемещались по сцене, создавая все новые, неизменно эффектные и мрачные композиции...
Ирония, которую с такой щедростью и так язвительно расходовал режиссёр в начале драмы, отозвалась надрывной и щемящей болью в ее конце. Энергия обличительства, с которой режиссер вошел в пьесу, обернулась горечью сожаления и слезами соболезнования, когда настало время покинуть этих незадачливых, несовершенных персонажей. Спектакль начинался одной крайностью, кончался другой. Начинался нотами скепсиса и сарказма, кончался потоками слез. Это движение от пародии к трагедии, вероятно, было заранее задумано и рассчитано. Однако слезы финала воспринимались все же как возмездие за насмешки и издевки завязки, за тот раздражённый треплевский взгляд, которым посмотрел режиссёр на чеховских интеллигентов.