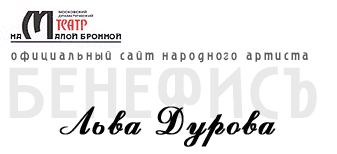Почва была глиниста и цепка необыкновенно... дорога расползалась во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка...
Н. В. Гоголь. «Мертвые души»
Гоголевская поэма обладает каким-то коварным свойством, на которое не раз указывали. Ее смысл все время двоится, перетекает из одного плана в другой, из реальности в фантастику, из быта в мистику. Можно даже сказать, что в «Мертвых душах» нет ни одного предмета, лица или движения, которые бы имели окончательное и самодовлеющее значение. От «птицы-тройки», несущейся в будущее, до реальной гройки, в которой восседают Петрушка с Селифаном да Чичиков,— выражаясь современным языком, космическое пространство, но ведь они у Гоголя каким-то таинственным образом связаны.
Помните, в рассказе В. Шукшина отец, слушая, как сын зубрит наизусть лирическое отступление из «Мертвых душ», вот эту самую «Русь-тройку», случайно споткнулся на одном «детском вопросе». Как же это получается, что в «птице-тройке», которой уготовано великое будущее и которой все уступают дорогу, сидит такой прохиндей, как Чичиков? «Тут же явный недосмотр»,— встревожился взрослый человек, обиделся и пошел за разъяснением к местному учителю литературы. Но оказалось, что и тот, тридцать лет задавая на дом учить «Русь-тройку», никогда не подозревал такого коварства в утвержденном тексте. Наивный вопрос о том, кто сидит в бричке, влекомой Гнедым, Чубарым и Заседателем, вызвал расстройство мозгов, появились какие-то ненужные посторонние мысли. Рассказ называется «Забуксовал»...
Вопрос о «птице-тройке» -- «детский вопрос» великой русской литературы, загаданный нам Гоголем. Про этот вопрос Блок уже после революции скажет, что его «конем не объехать». Отечественный театр «объезжал» этот вопрос очень долго. «Мертвые души» почти не ставились, а если и обретали сценическую жизнь, то почти всегда удовлетворялись яркими анекдотами о визитах Павла Ивановича к разным помещикам, «символизирующим» и т. д. Определяющая поэму, влекущая ее сюжет и смысл интонация рассказчика, образ столбовой дороги, то исчезающей, то чуть проглядывающей сквозь сумерки истории, образ русской распутицы, огромного «беспорывного пространства», по которому «от моря до моря» несется тоскливая песня,— все это было для нашего театра запечатанной тайной. Может быть, поэма была вовсе недоступна сцене?
М. Булгаков, попав по воле судьбы ассистентом режиссера в спектакль «Мертвые души», который готовился во МХАТ, писал одному из самых близких своих корреспондентов П. С. Попову: «Мертвые, души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существует 160 инсценировок. Быть может, это и не точно, но, во всяком случае, играть «Мертвые души» нельзя».
Между тем Булгаков начал сочинять пьесу. И даже вдохновился. Первой мыслью, освещавшей будущий спектакль, была мысль о писателе, который видит Россию из «прекрасного далека»: «Человек пишет в Италии! в Риме (?!). Гитары. Солнце. Макароны». И возникла фигура «Великого чтеца», «Первого в пьесе», автора «Мертвых душ». И этот Первый начинал действие и обращал в зал монолог о вечном городе в час захода солнца, о светлых грудах куполов, воздушных террасах и галереях, о лампах древних римских консулов, которые каким-то легким движением вдруг вызывали в памяти петербургского будочника, зажигающего уличные фонари.
Тогда, в совместной работе с В. Сахнов-ским, задумывался спектакль не о Чичикове, а о Гоголе. Планировались как важнейшие точки спектакля монологи Первого о России, ее дорогах, ее за душу хватающих грустных песнях. Как известно, из этого замысла ничего не вышло . Театральная история редко пишет набело. Булгаковский черновик только спустя несколько десятилетий оказался нужным. Сегодня в Драматическом театре на Малой Бронной он как бы воскрес для новой жизни. Создатели спектакля вновь пытаются постичь загадку гоголевской поэмы, которую начинали разгадывать в Художественном театре. Для этого пришлось совершенно разрушить сюжетную последовательность «Мертвых душ», создать небывалую драматическую окрошку (автор пьесы В. Балясный), которая не похожа ни на одну из существующих версий поэмы, имея точку опоры только в том давнем замысле. В центре этой математически вычисленной и одновременно причудливой, как сон, пьесы - - Гоголь и его отношения с героями, прежде всего Павлом Ивановичем Чичиковым. Булгаковское «Гитары. Солнце. Макароны» оживает в первых же секундах действия: в маленькой комнате, как бы небольшом театрике со своим раскрашенным задником, на котором палящее солнце высвечивает желтый берег залива, какое-то экзотическое растение на берегу и одинокие лодки. В маленьком квазиитальянском пространстве, сотворенном иронической фантазией В. Левенталя, появляется Автор -М. Козаков. У него в руках большая темная клеенчатая тетрадь. Фоном звучит какая-то итальянская мелодия, заливается- заходится тенор, а в зал обращаются первые слова о горечи чужбины и о Руси, которая «одна в сердце». «Мертвые текут живо,— рассказывает Автор,— и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши».
И вот они потекли, как в сновидении, никуда от них не деться. «Наши» выстроились в ряд, как на параде, яркие карнавальные фигуры: выкроенный из одного куска сукна с шерстью, прорастающей на спине сквозь материю, Собакевич -- Н. Волков, огненно-рыжий, курносый Ноздрев - Л. Дуров, «заплатанной», в живописных лохмотьях Плюшкин - - А. Дмитриева, куколка Коробочка - - О. Яковлева, наконец, без особые примет улыбающийся сахарной улыбочкой Манилов -- В. Лакирев. Все они предстали в воображении Автора, как представали в эфросовской постановке «Женитьбы» будущие женихи перед Агафьей Тихоновной. Но при внешнем сходстве приема сразу же можно было отметить явную театральную новость: Эфрос, почти всегда пренебрегавший любой внешней утрировкой, гротесковым костюмом, сильным гримом, скрывающим человеческое лицо, на этот раз по старой дороге идти не пожелал. Живые «свои» лица оставлены только Автору и Чичикову, остальные сразу же предстают в виде кукол или марионеток с одной резко выпяченной до карикатуры чертой.
Этот внешний сигнал, поданный в ответственном месте пролога «Дороги», призывал нас к новой игре, к игре по новым правилам, которые были поддержаны по-своему и В. Левенталем. На сцене стоят три бутафорских коня, как бы распряженная и разбежавшаяся по разным углам тройка. Сверху, придавливая и зависая надо всем, находится распластанное огромное колесо, видимо, то самое, о котором говорят мужики в самом начале поэмы. Центр сцены перед маленьким театриком с меняющимся задником занимает знаменитая бричка. Нам сразу же предстают основные «школьные» символы гоголевских «Мертвых душ».
«Дорога» начинается с простых вещей, с каких-то детских ощущений, только преувеличенных, разросшихся и набухших. Не стоит спешить с догадками и озарениями, не стоит репетиловским шепотком восхищаться тем, что тройка-то распряжена и никуда не мчится. Дорога еще только начинается, и вот уже звучит ее первый зов грозным тревожным, захватывающим рю-мом Восьмой симфонии Дм. Шостаковича. И мы вовлекаемся в это трудное движение, в этот мучительный, никак не разрешающийся диссонанс, захватывающий четыре круга спектакля, четыре среза гоголевской поэмы, четыре среза гоголевской судьбы.
«Дорога», «Торг», «Бал», «Суд». Спектакль делится на четыре части, он строится, как симфония. Все герои пройдут испытание четырьмя основными темами, а лейтмотив дороги будет разработан во всех его оттенках, от трагически-рокового до бесконечно земного и пошлого. Сквозь хаос хоров, дуэтов, трио и неожиданных коротких соло с жесточайшей последовательностью и прямотой проведен мотив авторской судьбы, образ того, в чьей голове слагается некий мир, тут же па наших глазах и реализующийся.
Режиссер исходит из того, что «Мертвые души» еще не написаны. Они как бы создаются на наших глазах, вот в этой самой бричке, в которой Автор и Чичиков сидят попеременно. Поэма сочиняется на российской дороге, питается ее бесконечно разнообразными впечатлениями. Здесь еще все не установлено, не отлилось в хрестоматийные формы, все перетекает, гримасничает, стремится обособиться и разлететься в стороны — и снова возвращается к центру.
А. Эфрос пытается проникнуть в источник того, что называется миром Гоголя, в тот источник, откуда излились и сами «Мертвые души».
Тема дороги начинается с того же детского ощущения несмыкаем ости двух планов, на котором «забуксовал» шукшинский герой. «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее?» — это признание Автор обращает в зал в торжественных плавных строках ритмической прозы, будто отвечающей ритму дороги, которая звучит в душе творца. И тут же без паузы, в стык, в левом углу сцены Павел Иванович, сидящий рядом с Селифаном, тоже повторяет, смакуя: «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе...» и так далее. Павел Иванович тоже любит быструю езду. И у него есть своя цель. И своя Дорога.
Тема первой части складывается мучительно, вес время разбивается на какие-то жалкие ручейки и осколки. Пафос никак не может зацепиться за реальную русскую почву. Будто колесо попало в яму и прокручивается, прокручивается, прокручивается, не в силам двинуться вперед. И так же прокручивается, не складывается, не выпевается у Автора то, что в школе потом назовут лирическими отступлениями. Хрестоматийные фразы рождаются с величайшим трудом, отчаянием, десятки раз перепроверяются, интонируются, пробуются на зубок, пытаются охватить облик реальной Руси, реальных ее людей, вот этой самой непролазной дороги с выбоинами и ухабами.
Реальная дорога не дает воспарить и залететь высоко, тут же возвращая к ощущению действительности. Только сложится торжественная рулада о расторопном ярославском мужике, который сочинил нехитрый дорожный снаряд без железного винта, а при помощи топора да долота, как Селифан (Б. Камаев), так тряхнет «нехитрый снаряд», что он чуть ли не на кусочки разлетится. Только наладится у Автора торжественный гекзаметр о конях, что дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, как тот же Селифан сделает свое «замечание из жизни», будто холодной водой окатывая восторг творца: «Сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец».
Не складывается поэма. На наших глазах размывается великий замысел, засасывается глинистой почвой, не дает разгуляться воображению. Мелькают лица Манилова и Коробочки, дьявольским наваждением настигает повсюду смех Ноздрева, тащит к своей цели Павел Иванович, пьянствует и мелет чушь Селифан. И отчетливо ясно, как это может быть только в театре, перед нами пытаются реализовать гоголевский образ «бессемейного путника», одиноко стоящего посреди дороги, образ писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами — «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога».
Чем дальше, тем труднее складывается поэма, все более печальной и скорбно-презрительной маской застывает лицо Автора. С трагическим пафосом открытия вырываются в финале первой части школьные, гордые, пророческие слова о «птице-тройке»: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо вес, что пи есть на земле, и, косясь, посто-раниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Первое лирическое отступление
Нет труднее и неблагодарнее задачи для актера, чем играть писателей-классиков. И не в том дело, что, не будучи гением, не сыграешь гения. Дело еще I) том, что каждый в зал приходит, как говорится, со своим гением, и на актера оказывается страшное давление со всех сторон. Он должен ответить ожиданиям зала, он должен воплотить образ, который витает в сознании режиссера, он должен, наконец, выразить свое собственное представление. И в каждую секунду с любой стороны тебе готовы крикнуть: «Ну разве это Гоголь?! (Пушкин, Чехов, Толстой)». Режиссер иногда от отчаяния, испробовав десяток исполнителей, решает играть сам. Обычно скрытый процесс глубоко личностного отношения к классику («Мой Пушкин») выходит наружу. Так О. Ефремов, не имей на то прямых актерских оснований, стал играть Пушкина в своем спектакле, потому что надобен был только «мой (его, Ефремова) Пушкин».
В телевизионном спектакле А. Эфроса «Несколько слов в защиту господина де Мольера» по пьесе М Булгакова Мольера играл Ю. Любимов. Режиссерская идея оказалась на редкость содержательной. Любимов играл французского комедианта с тем пониманием, с каким плотник понимает своего брата плотника. Это создавало ничем не заменимый, никакими иными средствами не выразимый объем роли. В «Дороге» А. Эфрос сам на сцену не вышел. Он выбрал актера, который должен был прожить судьбу чужую, присвоить ее себе, выступить от ее имени.
Автора играет Михаил Козаков.
Можно ему посочувствовать.
Я думаю, что тонкий и расчетливый сценический ум этого актера надобен был для целей «Дороги» прежде всего. Эфросу важно было донести мысль о Гоголе, сегодняшнее понимание его драмы, а не живой и полноценный образ писателя. Для решения последней задачи в пьесе В. Балясного не было никаких оснований, никакого материала. М. Козаков на Малой Бронной — не настаивает на том, что он Гоголь. Это фантазия режиссера и актера на тему гоголевской судьбы. Это не конкретный писатель, а Автор, то есть любой пишущий о России художник.
Но публика тонких различий знать не желает. Автора от Гоголя отличать не х|очет. М. Козаков выходит с рукописью «Мертвых душ», и, хоть и нет у него ни косого пробора, ни льющихся волос, ни длинного птичьего носа, он воспринимается не как представитель Гоголя, на как сам автор поэмы. И начинается сопоставление «своего Гоголя» с тем, который ходит по сцене Театра на Малой Бронной. Тут возникают резкие и неожиданные смещения. Шутка сказать, на место первого насмешника Руси, религиозного мыслителя и пророка приходит наш современник, сын «Современника», со всем комплексом проблем, которыми он обладает, причем обладает непроизвольно, не сознательно, а просто всем своим опытом, обликом, нервами человека 60-х годов, которые кричат из каждой интонации, из каждого жеста, из каждого внятного акцента.
М. Козаков предельно серьезен. Он не улыбнулся, кажется, ни разу за весь спектакль. Он скорбен, язвителен, печален, умен, поэтичен и патетичен. Но в нем и следа нет «состава Гоголя», его способа видения мира, людей, тех самых «наших», которые выстроились в его сознании в прологе спектакля. М. Козаков следит за героями Гоголя, как строгий учитель, выставляющий последние оценки. На протяжении всей «Дороги» с каким-то труднообъяснимым мужеством он сохраняет дистанцию между собой и всем, что ни есть вокруг, никого «не допускает» до себя. Он отделен от своих героев непроницаемой прозрачной стеной, не позволяющей повернуть любой тревожный вопрос от них к себе, «на себя» примерить Собакевича и Плюшкина, Чичикова и Манилова. М. Козаков оказывается неспособным произвести ту самую операцию, которую производил над собой Гоголь публично, перед всей Россией, чем по существу и начал великую исповедническую русскую литературу.
Автор в «Дороге» критичен И весь устремлен вовне. Никакой собственной душевной муки, тоски по собственному несовершенству ему не дано. Он гражданин, обличитель, он презрительно рассматривает персонажей балагана, как бы забыв, что все они вышли, как сказал бы Блок, из департамента полиции его собственной души. Блистательная сочувственная интонация начала, вот это самое грустное, доброе, проникающее «вес наши»— было очень быстро и безвозвратно потеряно актером. Не удается внутренний диалог с героями, сокрушающий писателя. И нет любви к ним, той самой любви, которая дарована творцу к самому последнему из его творений. Эфрос заставил нас смотреть на гоголевский мир глазами Автора. И мы потеряли контакт со сценой, с людьми, ее населяющими.
Финальный суд и финальное одинокое сумасшествие Автора оказываются эмоционально не подготовленными: мы не можем сопереживать тому, кто в нашем сопереживании совершенно не нуждался и ни к какой внутренней цели не стремился. Даже Чичиков оказывается в большей степени «героем пути», некоей, пусть и ложной, цели, нежели спорящий с ним Автор, окостеневший в своем брезгливом неприятии окружающего. Недаром спектакль и завершается той же нотой абсолютной разъединенности Автора и персонажа, которая правила зрелищем: Чичиков в своем углу лелеет новую авантюру, обдумывает новую кривую дорогу к наживе; Автор же, замкнувшись в одиноком отчаянии, обращает последнюю молитву в небеса и ищет спасения в работе, работе, работе, только и дающей выход из хаоса и путаницы жизни. Он забывается под стук колес.
А «Дорога» идет вперед. Отзвучали последние аккорды Шостаковича, завершающие тему первой части, и начинается часть вторая — «Торг». В пьесе она имеет и второй подзаголовок — «Сеанс, одновременной игры». Этот сеанс обрамлен прямым диалогом Автора с Чичиковым, преследующим важную цель: объяснить природу этого загодочного персонажа, поставленного в центр поэмы. Писатель и проходимец взаимно вежливы, называют друг друга только по имени-отчеству. Николай Васильевич все пытается понять, зачем Чичиков тратит столько сил на пустое и жуткое предприятие, а Павел Иванович, в свою очередь, оправдывается, объясняет Николаю Васильевичу, что никто сейчас не зевает на должности, все приобретают. Павел Иванович все объясняет попросту, по-житейски, заботой о будущей семье и детках. Он говорит о том, что сознательно избрал «косую дорогу», потому что «косой дорогой более напрямик». Ничего не может сделать Автор со своим героем, он его и обличает, и стыдит, и даже подлецом называет. А Павел Иванович обижается и в доказательство каторжное™ труда своего начинает «сеанс одновременной игры»: он торгуется со всеми помещиками разом, он торгуется со всей Россией, и этот поединок есть высшие минуты его жизни.
Неторопливая последовательность «помещичьих» эпизодов разбита вдребезги. По замыслу, все должно играться разом, будто сдавленное мощным прессом. Чичиков долго раздумывать не может, он должен перебегать «от доски к доске», от помещика к помещику, он обязан знать все пружины человеческой психологии и играть на них как виртуоз. Никаких психологических пауз, удар за ударом, герой только успевает поворачиваться под натиском кукольных дураков. Тут начинаешь понимать нешуточное положение героя поэмы, которого недаром же гоголевский современник воспринимал «Ахиллом», способным на «самопожертвование мошенничества».
Правда, внешне наш Ахилл непритязателен. А. Мартынов помещает Ахилла в оболочку существа «ни се ни то». Ни знаменитой фрачной пары брусничного цвета с искрой, ни легендарного ларчика красного дерева со штучными выкладками из карельской березы. Вместо брусничной пары — вылинявший темный фрак, прозодежда XIX века, вместо ларчика — простой черный саквояж, как у трудяги врача. Когда-то в Художественном театре хотели, чтобы Чичикова сыграл Качалов — мечталась именно такая мощная фигура. Эфрос взглянул на дело проще, его Ахилл — нормальный «деловой человек», как окрестили гоголевского героя в одном газетном отклике, и этот деловой человек сталкивается с людьми неделовыми, куклами, из которых выжато все человеческое. И Чичиков —А. Мартынов.быстро слился с общим фоном.
В такой художественной прессовке резко усилилась сюжетная динамика, но лиц играющих стало не видно. Вернее, все стали на одно лицо. Чудесное ослепительное своеобразие каждого, даже в глупости своей ни на кого не похожего, утратилось в сеансе одновременной игры. Тут серость сражается против серости, любитель с любителями. За мельканием искрошенного диалога почти не различить людей, как не различить тех безымянных, которые сражаются с гроссмейстером и которых считают не по головам, а по доскам.
На новой дороге Эфросу, очевидно, не так стали важны оттенки и переливы людской психологии. Он также совсем не занят очеловечиванием монстров, которое принесло ему успех в «Женитьбе», открывшей секрет Гоголя в современном театре. Там каждый самый жалкий человеческий мир был целым миром, просвеченным и согретым изнутри любовью и пониманием. Нет, это была не жалость к «маленькому человеку», как попытались тогда сразу же определить. Этой темы режиссерское искусство Эфроса, в сущности, никогда не знало. В «Женитьбе», как всегда глубоко лирическом и личном спектакле, режиссер просто «примеривал» судьбы гоголевских персонажей «на себя». Он сам испытывал вместе с гоголевскими героями жуткое одиночество и заброшенность и одновременно тоску по общению, взаимности, любви которыми оказалась переполнена комедия о женихах.
В «Женитьбе» Эфрос монстров превращал в людей и очеловечивал.
В «Дороге» людей превратил в монстров.
В «Женитьбе» типы становились реаль- ! ными, до боли узнаваемыми лицами.
В «Дороге» человеческие лица сведены к типам, вплющены в одну гротесковую черту и этой чертой исчерпаны,
В «Женитьбе» с бесконечной смелостью побратался он с самым последним из «женихов», каким-нибудь отставным моряком Жевакиным с петушьей ногой и головой.
В «Дороге» он отделился от героев фигурой Автора, а принимая во внимание коренные черты этого персонажа, он отделился от всего им сотворенного мира. Возникло такое ощущение, будто перерезали невидимый провод, по которому ток шел в зал.
С бесконечным презрением обращается в финале второй части Автор к Павлу Ивановичу. Он видит, что великие силы души растрачены впустую: «Ах, Павел Иванович* Павел Иванович, какой бы из вас был человек, если бы также, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей цели!» Они перебрасываются, словно мячом, саквояжем, перебрасывают друг другу мертвые души - - и никак не могут договориться. Правда, возникает даже секунда близости, общей печали, когда' Чичиков стал фантазировать о тех, кого он приобрел, и вдруг нахлынули некая меланхолия и нежность. Но это лишь на секунду, все побеждает проклятый практицизм; Павел Иванович окончательно поселяет свой товар в метафизическую область. Херсонскую, и мы на полдороге теряем к нему всякий интерес; Николай же Васильевич отходит на исходные рубежи, в маленькую' комнатку с итальянским пейзажем, двумя лодками в южном теплом заливе.
То, что Чичиков — главный собеседник Автора, было понято Эфросом впервые па отечественной сцене. Это как раз одно из-тех прозрений, которые давно таились в: театральной культуре, в ее черновиках и набросках. В 1932 году, когда вышел мха-товский спектакль, Андрей Белый, огорченный и обескураженный «непонятым Гоголем», советовал, не зная первоначального-замысла театра: «Надо было ввести на сцену автора, самого Гоголя, и как это могло-бы быть интересно! Ибо главный герои «Мертвых душ» не Чичиков, а Николай Васильевич Гоголь и то, что Гоголь думал О' Чичикове». Читая эти строки полувековой давности, можно только подивиться прихотливости театральной истории, которая так долго блуждала окольными дорогами, чтобы выйти, наконец, на дорогу столбовую. И тут же потерять ее!
Второе лирическое отступление
Проглядев только что написанные страницы, автор их пришел в некоторое смятение. Я представил глаза режиссера, читающего этот текст (а когда пишешь, поненоле представляешь и предвосхищаешь самую важную для тебя реакцию). Я представил эти глаза, которым сразу стало скучно, потому что нет ничего глупее в нашем деле, чем требовать от художника делать так, как прежде, или укорять ранее сотворенным. Мы всегда склонны к консерватизму, нам подавай то, что мы уже знаем, любим, понимаем. К чему мы привыкли. А художник часто с отвращением смотрит па содеянное, он готов все сжечь, от всего отказаться, убежать от самого себя. Он ищет новую землю. Не из позы, не из желания-новизны во что бы то ни стало, а просто потому что невозможно, нестерпимо, стыдно жить по инерции. Когда ты, едва начав ставить, уже знаешь, как ты это поставишь. Когда артисты, еще ничего не попробовав, знают, как они будут играть на премьере. Когда зритель знает, что он увидит, а критик — что напишет. Вот от этой инерции стиля удавиться можно, И тогда жгут рукописи, едут на Сахалин, ударяются в запой, бросают театры, открывают студии, начинают учить грамоте деревенских ребятишек (и у них учиться, переучиваться!). Тоска «по новым формам» есть часто тоска по новой правде, по себе самому, еще не утраченному и не оплывшему уверенным мастерством. По жизни еще немой, не понятой, не выраженной. Потому что вчерашний язык искусства для этого опознания не годится. Он уже мертв для художника. Помните, «улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать»? Помните, как у поэта осталось «только два» слова:«сволочь» и «борщ»? Вот что такое изношенность искусства, вот что такое уверенное мастерство.
Но, понимая все это и зная бессмысленность тоски по прошедшему, я говорю о «Женитьбе», как о потерянном рае. Говорю после «Дороги», после этого в куски раздробленного и не сведенного единым чувством мира. Где актеры играют по-разному, по-новому и по-старому, но каждый сам по себе и за себя, представляя зрелище вот этой самой распряженной тройки, что весь спектакль уныло маячит перед глазами. Да, эффектен Лев Дуров, энергичен, интересен, талантлив. Любимец публики, он может позволить себе все: вцепиться зубами в филейную часть Павла Ивановича или пробежать в нижнем белье на бал давать бредовые показания. Его напор — поразителен, его дьявольская вертлявость — несравненна. Тут уже нет и следа старой техники: впервые Дурову не дано минуты высокой жалости, прозрения, вызова богам, которые сопровождали почти все его роли в эфросовских постановках классики — от Чебутыкипа и штабс-капитана Снегирева до Сганареля и Жевакина. Отправляясь в новую дорогу и безжалостно вырубая прежние актерские навыки, Л. Дуров новых еще не приобрел. Напротив, техника, в которой исполнен Ноздрев (а это самая заметная работа в спектакле), парадоксально напоминает технику старого «представленческого» театра, лишенного одухотворяющей идеи. Да и все они, может быть, за исключением О. Яковлевой, которая с живым петухом в руках и вечно надутыми щечками бывает порой трогательна в своей немыслимой тупости, повторяю, за этим исключением, актерский мир спектакля насквозь функционален, не освещен внутренним светом личной инициативы, не согрет геплом тех подробностей, на которые был всегда щедр режиссер. Кажется, «всесильный бог деталей», много лет осенявший Эфроса, покинул его па этот раз.
Хорошо сконструированная пьеса, опоздавшая на десять лет и выражающая, на мой взгляд, представления о Гоголе образованной части студенчества конца 60-х годов, пьеса эта как-то мало согласуется с умением Эфроса лирически перечитать традиционную, не раздробленную и не распыленную структуру старой драмы. В эстетике концертных1 номеров, мгновенных, как укол, в мозаичной, лишенной какой бы то ни было протяженности структуре эфросов-ским артистам стало трудно дышать.
Обычная мизансцена Эфроса — противостояние двух человеческих воль, темпераментов, чувств. Он мог поставить двух неподвижных актеров друг против друга, и мы, как завороженные, следили за тем, что между ними происходит. Эти межличностные отношения в «Дороге» перестали его интересовать. Он пытается создать общий коллективный портрет хамства и тупости, не заботясь о человеческом обеспечении такого замысла.
«Дорога», если хотите, самый «таганковский» спектакль Эфроса. Старое умение вить сеть психологических сцеплений, ту самую «изогнутую проволочку», про которую Эфрос писал в своей книге, отброшено. Действие разбито па тысячи осколков, фраз, микросценок, в которых проволочку изгибать некогда. Она выгнута в прямую линию. На новой дороге актеры ведут себя по-разному. Один хватается за какие-то старые, почти студенческие уменья, другой отважно отсутствует, третий послушно выполняет чужую волю. Автор все более и более сползает в элегическую декламацию, почти салонную, яростно заламывает руки, закатывает глаза и не знает, как ему совладать с им же порожденным миром. Второй акт начинается с письма о гибели Пушкина. Автор начинает «Бал» с грустной сиротской ноты — писатель остался с Россией один на один. Потом этот мотив практического развития в пьесе не получит и останется чистой случайностью, неким общим интеллигентским довеском, чуждым сюжету «Мертвых душ» (и подлинной сложности темы «Пушкин и Гоголь» в реальной истории). Действительная дорога второго акта начинается с «Бала». Тут проходит новое испытание Автора и его героев. Перед нами новелла о бессмысленной суете жизни, которой оставлен план выражения без всякого содержания. Это новелла о прорастании абсурда, чепухи, бреда, который увеличивается с каждой минутой и разливается, как вода в половодье.
Эфрос сочиняет сложную пространственно-временную среду, в которой скрещиваются точки зрения Автора и Чичикова, существующего как бы в двух измерениях: Павел Иванович все время «соскакивает» в воспоминания, голоса помещиков настигают счастливого победителя. Откуда-то из левого угла, притемненный, подает свои реплики Собакевич, с небес звучат раскаты ноздревского смеха, неотвратимого, как смерть. И тут же неотвязные кошмарные видения Коробочки с петухом, тоненько долбящей одно и то же, одно и то же, одно и то же. Долго усаживаются есть, буквально затаскивают Павла Ивановича за стол, и едят, едят, едят, а потом, зацепившись за какое-то слово, в резко поменявшемся свете начинают играть в карты, то есть не играть, конечно, а как бы играть, ритуально смакуя основные карточные ходы и увертки. И Чичиков уже в полубреду, и Автор все больше и больше поворачивается спиной к нам и ко всему, что творится на сцене. Он одинок в своем маленьком театрике, в котором теперь уже не Италия, а Россия с ее известными видами — сереньким тоскливым небом, набухшим дождем, проселочной дорогой, покосившейся деревенькой и погостом. Тут, на «Балу», Чичиков начинает короткий бунт. Загнанный продавцами мертвых душ, дамами, неприятными во всех отношениях, он начинает обличать «Бал». «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал балы! Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы!.. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстега Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье» — и так далее.
Гнев Чичикова — гнев лично задетого, пафос вора, которого обокрали. «Бал» слов Чичикова во внимание не принимает, Нозд-рев с криком: «Бей его!» — начинает преследовать бедолагу Павла Ивановича. И на этом «Бал» разваливается.
И завершается сюжет сочинения «Мертвых душ», за которым мы следили. Теперь, творение Автора входит в мир, и начинается «Суд».
Финальная часть «Дороги» берет первую» и, надо сказать, неожиданную ноту. Автор, который от своего создания все более и более отчуждался, вдруг сообщает залу, что он «глубоко счастлив». Он объявляет, что собрался ехать в Россию и просит беречь-его и лелеять, потому что в той старой глиняной вазе, с которой он сам себя сравнивает, «теперь заложено сокровище».
Эта очень характерная для Гоголя нота,. идущая у него через всю поэму, нота гордого понимания величия труда своего, понимания тайных, дальних и неведомых миру целей как-то мало согласуется с реальным характером творческого процесса создания «Мертвых душ», каким он представлен на Малой Бронной. Этот Автор никакого горького счастья или тайного восторга от свершенного не испытывает, ничего хорошего не предчувствует и не ждет и никакой любви к своему творению не знает. Его окружает тоскливое море пошлости, срединности и абсурда, и М. Козаков во втором акте смело и резко идет к теме сумасшествия писателя, не ведающего, «где выход» и «где дорога».
Герои начинают судить создателя. Полицмейстеры и помещики, чиновники и цензоры, литературные критики и работники связи — все обижены. Суд над Автором переплетается со все усиливающимся абсурдом, толками и слухами о том, кто же есть на самом деле Павел Иванович Чичиков. Нелепости нарастают, как снежный ком, и завершаются грандиозным соло Ноздрева — Л. Дурова, вытащенного в нижнем белье и начинающего молоть какую-то чудовищную абракадабру. «Называю поименно ямщиков», — возглашает он с восторгом, стоя на возвышении посреди сцены. И Автор вновь срывается. Он обращается к своим героям с горьким упреком, как же это они могут верить Ноздреву, ведь все, все до единого, знают, что он лгун, да вот на тебе, слушают и верят. И чем бредовее околесица, тем внимательнее слушают и тем больше верят! И тому, что Чичиков шпион, и тому, что он фальшивомонетчик, и тому, что он переодетый Наполеон. Последняя идея принадлежит «шпрехен зи дейч Иван Андреич», почтмейстеру (А. Песелев), и он излагает ее с замечательной убедительностью. Правильность грамматической формы, в которой предложения цепляются друг за друга, оказывается, действует на мозги неопровержимо и независимо от содержания. Англия издавна завидует, что Россия так велика и обширна, недаром англичанин на карикатурах держит на веревке собаку, под которой надо разуметь Наполеона. «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!». И вот теперь они выпустили его с острова Св. Елены и он пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а на самом деле вовсе не Чичиков... - Так начинается «Русский бред» (А. Блок): Воз скрипит по колее, Поп идет по солее... Иногда глубоко запрятанный, иногда лирически-откровенный мотив какой-то тяжкой и грустной нескладехи жизни, опутывающей человека, проходит практически через все эфросовские постановки классики. Может быть, наиболее резко он прозвучал в таганковском «Вишневом саде», в поразительном спокойствии его обитателей, над которыми висит топор и которые не только ничего не хотят сделать для своего спасения, но еще и устраивают пир во время чумы, танцуют под еврейский оркестр, не желая противостоять судьбе. В «Дороге» мотив противостояния хаосу носит двоякий характер. Трактуя Чичикова как своего рода лирического героя поэмы, режиссер видит, что перед ним единственный человек пути. Что весь остальной мир замер и коснеет в полной неподвижности и кукольном автоматизме. Но «дорога» Чичикова — величайший обман, и прежде всего самообман, разрушающий живую душу. На одном полюсе чичиковское предпринимательство, на другом — коловращение Ноздрева. Так возникает дурная зеркальная бесконечность, так возникает отрицательное переживание жизни, разделенной на обездушенную деятельную прагматику и столь же мертвую и косную неподвижность. Не создав духовного полюса, противостоящего этим двум началам, не решив образ Автора, режиссер должен был проиграть спектакль.
Третье лирическое отступление
Прикоснувшись к теме подступающего хаоса, постановщик «Дороги» прикоснулся, может быть, к самой тайной пружине поэмы, которую мы до сих пор знаем как-то изолированно, обособленно, в той видимой ее классической части, которая называется «первый том». Между тем первый том сам по себе еще не дает разгадки «детского вопроса» о том, кто сидит в «птице-тройке» и почему все более решительно уходит автор от конкретной почвы истории в чистое и свободное парение. Рассыпанные по всему тексту первого тома обещания каких-то неожиданных поворотов, намеки на будущее воскресение героя — все это отечественной сценой, вслед за критикой, отбрасывалось как несущественные наслоения, отголос-ки назревающей болезни писателя, разорванного зрелищем тяжкого разлада видимого и сущего в мире. Однако без этих «отголосков» и «наслоений», без этих, как сказано у Белинского, «мистико-лирических выходок» нет Гоголя, нет «Мертвых душ» в их целостном громадном замысле. Тема пустоты и бессмысленной праздности жизни, которой Эфрос в своем спектакле придает чисто сатирический и гневно-отрицающий характер, переживалась Гоголем, как известно, иначе. Спасение от подступающего хаоса он видел только на путях переустройства тех самых людей, которые населяют «Мертвые души». На страницах второго тома мотив всеобщей мировой путаницы и хаоса развивается до последнего предела. Гоголь создает поразительную по последствиям в русской литературе фигуру некоего юрисконсульта, колдуна и мага, умеющего заварить такую кашу, такую бумажную карусель, так всех запутать и стравить, что губерния пойдет войной на губернию, вместо антихристов перебьют не-автихри-стов и достигнут предела пустоты. Будто опухоль пожрала все живое. Но именно на обломках второго тома можно прочитать и другие, будто отчеканенные, слова о спасении Отечества, которое писатель видит только на утопических путях внутренней борьбы с неправдой: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управлепья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов? , так должен восстать против неправды». Эти слова финала дошедшей до нас рукописи второго тома, оборванного на звенящей ноте, составляют сейчас как бы параллель, своего рода рифму к финалу первого тома, к той самой «птице-тройке», которая сразу же лишается бессмысленного «апофеоза быстрой езды» и обретает трагический контекст, столь близкий и внятный позднейшим русским художникам. Второй том «Мертвых душ» — книга, совсем не тронутая нашим театром, многое смогла бы объяснить в Гоголе. Но пока она для нас нема, пока она все. в тех же черновиках культуры, которые ждут своего часа. Однако вернемся к «Дороге»... Создавая свой сценический образ Великой Путаницы, Эфрос насквозь сатиричен. Он целиком замкнут в пределах первого тома, и дальний призыв к спасению на тех путях, которые предлагал Гоголь, отброшен, как чистая химера, которую и в расчет-то принимать нельзя. Хаос заливает все пространство, захватывает все сущее, поглощая вместе с собой и сознание Автора. В эпизоде «Суда» герои совершенно распоясались, на них нет никакой узды, Эфрос резкими и гневными мазками создает галерею свиных рыл, убивающих писателя. Прессуется в один отрицательный и отвратный знак все то, что у Гоголя помечено знаком бесконечной двойственности живой жизни, вроде того самого полицмейстера, который в «Дороге», у Л. Каневского, чистый органчик, пьяно и тупо твердящий о том, что «бунта не будет», а у Гоголя являет собой изумительный пластический образ «отца родного», грабителя, вызывающего большое сердечное уважение у своих жертв, потому как «успел приоб-ресть совершенную народность» и «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».
Есть известный гоголевский набросок, как бы план поэмы: «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота... Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до верха смешного... Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью... Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна... Весь город со всем вихрем сплетней — преобразование бездеятельности жизни всего человечества в массе».
В этом плане «страшная мгла жизни» сокрыта у Гоголя в живой копошащейся материи. Она обволакивает ее так, как молочная плотность тумана обволакивает остывающую землю. «Мгла жизни» в «Дороге» составлена рациональной мозаикой вырванных фраз, столкновением несоединимого, неравного, несовместимого. Это абсурд «от Балясного»,а не «от Гоголя». Режиссеру не пришлось эту мглу выискивать, выпаривать, колебаниями «изогнутой проволочки» вызывать. Все задано драматической конструкцией, относящейся к поэтике «Мертвых душ» так, как вино относится к винограду. Вероятно,это «выжимание» и не дает в полную силу прозвучать ни одной серьезной теме Гоголя, волнующей Эфроса. Вернее, лишает эти темы «сокрытой тайны», которая выведена в прямой текст, на самую поверхность. Может быть, поэтому не удается и резкий- смысловой переход к мотиву Смерти, внезапно прервавшему финальный «Суд». Смерть прокурора, похоронная процессия, перерезавшая дорогу чичиковской бричке на выезде из города, — все это у Гоголя исполнено высшим предостерегающим смыслом. Режиссер это понял и заставил своих героев замолкнуть в трауре и, взглянув в лицо упавшего Прокурора, даже произнести несколько печальных и тихих слов. Но упала кукла, мы ни на секунду этого не забываем. И нам сразу же напомнят, что это смерть в балагане, а кровь тут — клюквенная.
И смерть никого не останавливает и ровным счетом ничего не значит. Пляска марионеток вокруг Автора продолжается с той же силой, критики и цензоры несут околесицу почище Ноздрсва. Гневно и с открытой болью Автор бросает в зал слова о том, что заездили в литературе добродетельного человека и что пора «припрячь подлеца». Дискуссия на эту тему Автора чрезвычайно захватила, здесь был едва ли не самый сильный момент роли, еще раз подтвердивший старое мнение о том, что все мы дети своего времени.
Смерть пронеслась мимо героев. И «Бал», и «Торг», и «Суд» канули. Осталась только «Дорога» и два человека' на ней, Автор и его герой. «Ну, что ж!.. Плачем горю не пособить, нужно дело делать», — приговаривает почти по-серебряковски несломленный Чичиков, готовясь к новой авантюре. И на той же дороге, в полном одиночестве, Автор взывает к тому, кто, вероятно, знает, зачем «мир в дороге, а не у пристани», и в чем этой дороги смысл и цель. Вновь звучит Шостакович, быстрая часть Восьмой симфонии, созданной в годы Великой Отечественной войны. И эта, казалось бы, не совсем уместная музыка неожиданно приближает нас к пониманию чего-то очень важного в Гоголе. Может быть, пятого круга его судьбы, перед которым остановился современный режиссер.
Театральный разъезд после представления новой комедии
И повторилось все, как встарь. Стоял в «сенях театра» Автор спектакля. Слышался «отдаленный гул рукоплесканий», в котором теперь, как и прежде, ничего толкового не различишь: «Голова ли думает, сердце ли чувствует, звучит ли глубина души, работают ли ноги, или руки, перевертывают стаканы, всё покрывается ровными плёсками.
Если б можно было записать вес, что слышал я в «сенях» на Малой Бронной после представления «Дороги». Записать те мнения, которые «еще девственны и свежи», еще «не покорились толкам и сужденьям знатоков и журналистов», еще находятся «под влиянием своего собственного суда». Впрочем, Николай Васильевич Гоголь и эту работу произвел за нас, и, пожалуй, нечего и добавить к его подробнейшей классификации околотеатральной молвы, если не считать какой-то особой хищной радости по поводу неудачи, хотя и это, конечно, всегда было...
Я стал читать мнения «знатоков и журналистов». Их всего несколько. И все они без остатка укладываются в гоголевскую схему. Вот восторги пишущих женщин: «Это одно из откровений и в спектакле и в творческой судьбе актрисы» (про Коробочку— О. Яковлеву). «Другое откровение — Плюшкин», и дальше о мизерной роли А. Дмитриевой: «Я уже отобедал» в устах этого Плюшкина прозвучало как дяди Ванино «Пропала жизнь».
Вот мужская похвала эпохи НТР. В «Дороге» «слишком большое количество информации поступает к зрителю в единицу времени».
Вот наконец и та ожидаемая долгожданная формула, без которой как-то неудобно писать об Эфросе: «В неприятии такого, вроде бы по-человечески понятного желания устроиться и «приобрести» — гражданское звучание спектакля, его глубоко современный смысл».
Вот и одинокий суровой приговор: «Дорога»— «пройденный этап отношений между современной сценой и классической прозой».
Приговор в одну строку, а за ней годы работы, поисков, разочарований. За ней спектакль, в котором на кон было брошено все.
Нет, что ни говори, трудно было взяться за перо.
Мешало все.
Мешала ситуация театрального «промежутка», в которой Зфроса, только что неприкасаемого (для определенного театрального круга, конечно), стали энергично сбрасывать «с парохода современности» (беспрецедентно, но факт, что за две недели до выхода официальной премьеры «Дороги» уже было напечатано в уважаемой газете, что спектакль не стал праздником). Мешала ситуация в критике, которой теперь стало как-то привычней выяснять серьезные отношения с режиссером устно, а традиционные формы связи, письменное свое слово, которое одно только есть наше дело и добыча будущих историков, превращать в своего рода сферу обслуживания. Мешала ситуация в Театре на Малой Бронной, о которой можно было судить хотя бы по печальным статьям самого Эфроса, который через газету стал выяснять отношения со своими артистами. Мешало собственное малодушие, понятное, может быть, только собрату по цеху. Да мало ли еще что мешает нам вести диалог с мастером, как он того заслуживает, и с той степенью серьезности, на которую ты сам способен.
В поисках итоговой формулы надо было на что-то опереться, на какой-то близкий случай. Я стал перечитывать статьи критиков, которые были мною глубоко чтимы и оказывались в сходной ситуации. И вот, кажется, нашел: «В этой работе дорого то, что в ней нет надсады, нервной заботы об этап-ности... Если хотите, это рядовой спектакль». И далее с абзаца: «Рядовой спектакль одного из самых больших современных режиссеров. Естественно связанный с тем, что он делал и будет еще делать».
Это было написано об одном спектакле Г. Товстоногова, и я позавидовал великолепному снайперскому чувству стиля, этому самому абзацу, который горечь главного предложения, чтобы дух перевести, отбивал необходимой паузой и как-то сразу уравновешивал мощным финальным аккордом. Рядовой спектакль был только передышкой между победами, и мы могли облегченно вздохнуть.В нашем случае и такая счастливая формула не годилась. «Дорога» оказалась не рядовым спектаклем одного из самых больших современных режиссеров. Перед нами был спектакль этапный, «надсадный», кризисный (и опять вспомнил важный разговор с режиссером, его горький юмор по поводу того, как возвращаются к нему его же слова, сказанные в сердцах на какой-нибудь открытой репетиции, вот и словечко «кризис» вернулось).
Если хотите, то «Дорогу» Эфрос замечательно проиграл: получил нужный, необходимый отрицательный результат, в котором прозрения и догадки, обещанные и готовившиеся трудной сценической историей «Мертвых душ», обернулись каким-то роковым художественным непопаданием.
В таком «непопадании» важен масштаб, его принципиальный характер, который остается во внутренней памяти театра.
«Дорога» поэтому еще и спектакль о собственном театральном пути, который каждый раз приходится искать заново, выдираясь из цепкой глинистой почвы прежних умений и предрассудков «любимой мысли». Будем надеяться, что новая дорога не напрасна. Будем надеяться, что не зря она дарована творцу.