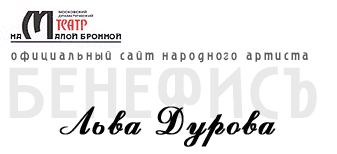Как справедливо заметил один из критиков, Дуров сыграл так много ролей, что «его герои могли бы составить население целого городка».
Какой странный был бы этот городок. По его улицам тащились бы допотопные трамваи и мчались современнейшие автомобили; в толпе рядом с милицейской формой мелькала бы сутана священника, плащ рыцаря, лохмотья бродяги, солдатская гимнастерка; бурно и безудержно, как грибы после дождя, там росли бы новые дома, и парень с открытым, лицом звонко кричал привычное: «Майна — вира!>; но там оставались бы нетронутыми «вороньи слободки», и по шаткой лестнице, хватаясь за кри¬вые перила, пробирался бы в свой номер одинокий и измученный тапер; развалясь в креслах, в прек¬расно сшитом френче, пахнущий одеколоном, уве¬ренно декларировал бы свои мысли герр Клаус; там лицом к лицу столкнулись бы нелепый, по-собачьи преданный Рафинад, велеречивый Яго, несмирившийся штабс-капитан Снегирев...
Да, Лев Дуров действительно очень много играет — в кино, в театре, на телевидении. Создает образы людей разных эпох и стран, разных характеров. Часто выступает первооткрывателем, удивляя новизной и неожиданностью решений,. сплавляет импровизацию с тщательно продуманной отделкой деталей. Но сказать о Дурове — играет, воплощает, создает, трактует — это сказать лишь половину правды, потому что он не просто играет, воплощает и создает. Он в каждой своей роли живет.
И от этого у него все настоящее: слезы, тоска, терзания, отчаянность разочарований, безудержная радость.
«Часто артисты знают, как их герои ходят, как выглядят, как говорят, как носят кепку, но не зна¬ют, как они мыслят и чувствуют. Они как бы копируют жизнь, фотографируют ее с большим или меньшим вкусом или мастерством, но воссоздать ее заново не умеют. Они описывают характер, а не рождают его>
Это замечание Эфроса из книги «Репетиция — любовь моя» цитировали уже не раз. И я тоже не удержалась: так точно оно определило одно из самых замечательных актерских умений Дурова — рождать характер. Именно рождать, находя в при¬вычном — неожиданное, в знакомом — удивительное, в известном — новое.
Казалось бы, ну что еще нового можно было разглядеть в провокаторе Клаусе из «Семнадцати мгновений весны»? И так все ясно, как дважды два. Еще один «винтик» в машине третьего рейха, порождение и симптом «обыкновенного фашизма». Но Дуров усложняет свою задачу. Он ставит себе вопрос: что же привело этого, явно небесталанного, по-своему артистичного человека на столь страшный путь? Поиски ответа помогают актеру не просто сыграть еще одного нациста, но приоткрыть психологию тех, кого нацизм главным образом и рек¬рутировал в свои ряды, играя на самовлюблен¬ности, тщеславии, дразня и вдохновляя перспекти¬вой власти над «толпой».
Или мельник из телевизионного фильма «Бумбараш». Враг Советской власти, из подкулачников — персонаж, отработанный в кинематографе. Но Дуров и здесь делает своего рода открытие: его герой беден, и вся его неуемность, хитрость, изоб¬ретательность направлены на то, чтобы нажиться, разбогатеть. Враг, который ощутил сладость легкой наживы, сопротивляется подчас еще отчаяннее и злее тех, кто теряет накопленное.
Дуров из тех, кто скрупулезно честен в любой работе, и эта честность проявляется в той неуемной требовательности к себе, в той самоотдаче, в той страсти, с какой он берется за каждую роль.
Вопросов к Льву Дурову у меня собралось много, и почти все они начинались со слова «как?». И это «как?» характерно, потому что в беседе с ним прежде всего хотелось понять происхождение его стиля, истоки его актерского мышления, выявить метод, проникнуть в лабораторию. Начать поэтому пришлось издалека, с традиционного:
«Как вы стали актером?»
— Хотя я из династии дуровской, цирковой, мои родители к искусству никакого отношения не имели. Начало моего сознательного возраста, то есть мои тринадцать-четырнадцать лет, совпали с трудным послевоенным временем. По нынешним понятиям, я был шпаной, голубятником, отчаянным забиякой, и ни одна драка за сараями — тогда топили в основном дровами, и у многих были сараи — не обходилась без меня. Вот после одной из таких драк, под свист и улюлюканье дворовых мальчишек, когда я еще не успел отдышаться, ко мне подошел какой-то парень и сказал: «Ну что, лучше драться, чем в Дом пионеров ходить?> Для меня тогда перспектива посещать Дом пионеров прозвучала так же, как сейчас, к примеру, приглашение слетать на Луну. Я уже хотел побить его, чтобы не лез с дурацкими вопросами, но парень оказался очень приставучим. Так я попал прямиком в театральный кружок. И, надо сказать, мне там сразу понравилось. Я стал очень занятым и деловым человеком, у меня появилось огромное поле деятельности: играть роли, оформлять спектакли, придумывать костюмы, во¬зиться с гримом... Кружком руководил замечательный педагог — Сергей Владимирович Серпинский.. У меня появился заинтересованный, умный учитель. Я, в общем, даже не заметил, как прошло три года, закончил десятилетку и должен был куда-то поступать. «Как—куда?» — удивился Серпинскии, и мы начали готовить с ним «Толстого и тонкого» для вступительных экзаменов в Школу-студию МХАТ. И, как ни странно, в действительности поступил с первого захода, можно сказать, безболезненно.
Учился я прилично и оказался даже в любимцах у Сергея Капитоновича Блинникова, который вел наш курс. В любимцах — до смешного. Когда Блинников говорил, что собирается ставить «Гамлета» и его спрашивали: «А кто же Гамлета будет играть?»— он отвечал с недоумением: «Как — кто? Конечно же, Левка Дуров, кто же еще?» Или заявлял: «Буду ставить «Булычева» — «А кто же у вас, Сергей Капитоиович, Булычева будет играть?» — «Кроме Левки,— говорил он,— некому »"!?
«Егора Булычова» он ставил, но играл я не Булычова, а Трубача. После этого Трубача меня в Детский театр пригласили. Вот совсем недавно в экранизации «Булычова» я снова играл Трубача, но почему-то хуже, чем тогда. А почему, не знаю. Мы втроем бились, режиссер Сергей Соловьев, Михаил Ульянов и я, но, мне кажется, так и не нашли какого-то точного и яркого решения, полу¬чилось все обычно, традиционно. Бывает так, проходят годы, вроде бы накапливается опыт, появляется мастерство, но первозданность, наивность, детскость все равно оказываются сильнее...
В кино начал сниматься сразу после окончания студии. Выпала мне почему-то полоса «помощников> — играл помощника экскаваторщика, помощника машиниста... Так и кочевал из одного фильма в другой.
И слетел с этой орбиты снова благодаря случаю. Однажды мне сказали, что со мной хочет познакомиться Михаил Ильич Ромм, что в фильме, который он снимает, для меня есть роль. Я, что называется, обалдел от радости. Трудно было тогда представить, что я могу попасть к Ромму, он был для меня каким-то кинематографическим божеством. Я примчался на «Мосфильм».
Шла репетиция. Ромм, как только меня увидел, завял мгновенно и говорит: «Ну что вы, я знаю его, он такой симпатичный, а мне нужно — мурло!> В это время из декораций, как в сказке, появился Сергей Капитонович Блинников, он ничего не понял, услышал что-то краем уха, но тем не менее яростно бросился вперед. «У кого мурло? — закричал он.— Ты что? У Левки — мурло? Да ты только посмотри, какой он симпатичный>.— «Вот я и говорю, Сережа, что он симпатичный, а мне нужно — мурло!» — обрадовался Ромм. Но тут Блинников еще громче, без всякой паузы закричал: «Кто симпатичный? Левка симпатичный? Да ты посмотри на него! Я его только за мурло и на курсе держал!» Ромм совсем скис. Я стою красный как рак. Вдруг сзади кто-то рассмеялся, такой знакомый тихий, мягкий смех. Я обернулся — стоит Алексей Баталов. «Ну вот,— сказал он, глядя на Ромма,— кажется, ты утвержден». Ромм развел руками и так растерянно: «Ну, раз они вас утвердили, значит, вы утверждены».
В тот же день мне показали отснятый материал. Я был поражен совершенно. «9 дней одного года» — этот фильм многое перевернул в кинематографе. До него любимым киногероем был герой Николая Рыбникова. Веселый, бесшабашный парень с широ¬кой душой, замечательный вкалывальщик. Но времена, как известно, не стоят на месте, они меняются. Меняются герои, меняются художественные при¬страстия.
Внутренний мир человека, его духовное становление — вот что прежде всего интересовало Ромма, когда он снимал свою картину. Он и называл ее «картиной-размышлением». И построена она была так, чтобы внешняя событийная острота уступала место тщательному, скрупулезному исследованию духовного мира его героев. Участие в этой картине изменило мою судьбу, хо¬тя роль была ролью второго плана, условно она называлась «нянька при ученых». Я играл полу¬хозяйственника, полуадминистратора, словом, чело¬века, который вертится под ногами, во все вникает, всем, разумеется, мешает, зато исполнен сознания важности своей миссии. И вот после «9 дней» меня стали приглашать режиссеры на разные роли.
—Лев Константинович, вы снялись в огромном количестве фильмов, их число приближается уже к семидесяти. Вы играли разные роли, и большие и эпизодические. Как вы относитесь к маленьким ролям, как вы работаете над ними?
—Больших ролей в кино я сыграл мало, все больше маленькие. И я знаю, что некоторые актеры рассуждают, не глядя: «А, эпизод — нет, не буду!».
Мне кажется, что это дурная позиция. Если есть что сказать, если можно что-то в эпизоде выразить, то надо за него браться, и нет в этом ничего зазорного. Это ни в коей мере не уменьшает авторитета артиста. Когда говорят — ах, эпизод, это меня не достойно — мне кажется, это просто снобизм.
Вот, к примеру, роль Рафинада в телевизионном фильме «Вся королевская рать>. На первый взгляд—какой жалкий, какой нелепый персонаж. На этом можно остановиться. Но как неинтересно! Ведь Рафинад—определенное явление, определенная судьба. Он не так прост и однозначен, как кажется с первого взгляда. Где бы ни появлялся Вилли Старк — Рафинад за ним, как тень. Собачья преданность. Но почему, за что? За то, что когда-то он приласкал его. Рафинада даже в футбол в школе играть не принимали, таким его считали тщедушным, ничтожным, ущербным. И когда Старк обратил на него внимание, от стал для Рафинада хозяином. Но его фанатичная преданность драматична, потому что человек, добровольно отказывающийся от своего «я», не человек уже, и это — драма.
Эпизод в кино — как новелла в прозе. Он имеет свое начало и свое завершение, свое развитие и свою кульминацию. Когда берешься за эпизодическую роль, то у тебя во всем пространстве фильма есть только фрагмент, только кусочек, и нужно его сыграть так, чтобы полностью высказаться, чтобы выразить идею своего героя.
Мне кажется, что зрителям никогда не нужно «диктовать»: этот вот — смешной, этот — отвратительный, этот — подлец... Нужно в любой, даже самой маленькой роли, в кино или в театре, стремиться к полному исследованию личности.
Вот Чаплин и де Фюнес. Не удивляйтесь такому сравнению. Герои де Фюнеса и Чаплина похожи — оба они нелепые и смешные. И у де Фюнеса потрясающая техника, бешеный темперамент, и комик он блистательный, и после всех его фильмов выходишь хохоча... Но через три минуты забываешь, почему и в чем там было дело. А чаплиновские фильмы не забываешь, там — смех пополам со слезами. Когда маятник бьет маленького бродягу по лицу — это жуткое зрелище, а не смешное. Чаплиновский смех всегда вырастает во что-то, большее.
И так — в любой актерской работе. Когда думаешь о больших, серьезных вещах — это обязательно скажется в роли. Зрители настолько сейчас подготовлены, что от них ничего не скроется. Они с удовольствием посмеются, но с легкостью забудут. А для чего же тогда столько усилий, столько напряжённой работы? Чтобы посмотрели и забыли?
Я преклоняюсь перед Юрием Никулиным и предпочитаю его тем клоунам, которые технически умеют делать даже более сложные вещи, чем он. Но, понимаете, ловля картошки на нос — только атракцион. А в маске Никулина угадывается социальная подоплека. Это современный забулдыга, он с улицы, он знакомый. Он все время попадает в какие-то дурацкие ситуации и в этих ситуациях сам к себе относится иронично. В нем есть грусть человека, убивающего свое время. Мне кажется, что чисто развлекательный подход, даже в цирке, уже устарел.
Смысл актерской работы не просто повеселить, не просто вызвать смех или печаль, но заставить заду¬маться, заставить оглянуться на себя. Это подход к любой роли, пускай даже самой маленькой, самой незначительной, эпизодической. Это единственный способ быть артистом.
—Лев Константинович, у вас большой опыт работы в театре и в кино. Так что же для вас главное — театр или кино?
—Сейчас принято в интервью говорить: «Мой дом — театр>. Да, так можно, конечно, сказать, но тем не менее для тех, кто много снимается в кино, студия тоже становится родным домом. Я прихожу на «Мосфильм> и встречаю людей, с которыми зна¬ ком двадцать лет. Как же после двадцати лет работы я могу сказать, что это не мой дом?
Что же касается формирования актерской индивидуальности, то я считаю, что процесс этот неразделим. По крайней мере для меня. Кино и театр по-разному, но ведут меня к одной-единственной цели, делают из меня артиста. Набирая опыт и там и там, все время что-то нарабатываешь, приобретаешь, потому что внутренняя размассированность, подвижность, тренированность, способность свободно распоряжаться возможностями — качества, для актера необходимые всегда. Но я бы сказал, что в кино существует момент большей личной ответственности. И вот почему.
В театре длительный репетиционный период, и тут многое не от тебя зависит. Если режиссер настоящий, серьезный, он выстроит роль, разработает психологический рисунок. Твое дело—этот ри¬сунок ухватить, и если ты достаточно гибок и умен, то ты его развиваешь, дорисовываешь, поворачиваешь так и эдак.
В кино — расчёт только на себя. В кино ты дол¬жен моментально выполнить то, что от тебя требуется. Моментально! Происходит какая-то интуитивная мобилизация, когда в мгновение выкладываешься полностью. Одновременно идет сразу несколько процессов: импровизация, оттачивание деталей, акцентирование каких-то смысловых вех роли и т. д. В театре нужно, предположим, сыграть какой-то эмоционально напряженный кусок. Во время репетиций к нему постоянно подходишь, выверяя каждую ноту, при этом даже часто в каком-то смысле бережешь силы, внутренне готовишься, собираешься, представляя при этом, как все должно быть, и когда наступает момент и нужно разрыдаться — я разрыдаюсь. Я уверен, что это произойдет.
В кино же — обговорили сцену с режиссером, сделали пятиминутную репетицию, попросили тишины, и мгновенно надо сосредоточиться и играть.
В кино ты почти ничем не «подперт>, не подкреплен. Не знаешь, какая будет музыка, как кадр будет в цвете выглядеть, какой план — крупный, средний. Ну, конечно, навык есть, многое понимаешь, но как смонтируют — неизвестно. Потом ведь и «занавески> вместо тебя могут повесить. Значит, нужно сыграть так, чтобы в этом фильме не ветер выл, не деревья качались или какая-то ваза — бряк! — со стола упала и раскололась и ею заменили твой крупный план. Надо, чтоб лицо твое показали. Режиссёр в кино смотрит на тебя с надеждой, только ты можешь воплотить то, о чем он тебя просит, и сделать это быстро, моментально... Когда в кино глицериновые слезы льют, я не понимаю, я раздра¬жаюсь. Что это такое? Актер ты или не актер?
В кино даже текст учится совсем по-другому, то есть намного активнее. Когда снимали «Семнадцать мгновений весны», при мне Броневой меньше чем за час выучил шесть картонок убористо напечатанного текста. В театре, я знаю, он этот текст «вкладывал» бы в себя очень долго.
—Лев Константинович, говоря о театральной режиссуре, вы употребили такие слова: оправдать видение режиссера, ухватить психологический рисунок роли, выстроенный режиссером. Бытует мнение, что театр — это в основном искусство актера, кинематограф же — во власти режиссера. Судя по вашим словам, вы придерживаетесь другой точки зрения?
—Очевидно, у меня не другая, а третья точка зрения, потому что я считаю, что сейчас и в кино и в театре главная фигура — режиссер. На кого был расчет в театре до Станиславского и Немировича- Данченко? На актера! На Сумбатова-Южина, на Сальвини, на Варламова. Был расчет на мощные актерские индивидуальности, могучие личности. Вот- де выйдет трагик и обрушит на публику свой темперамент. Все будут восхищены, потрясены. Искусство актера в те времена расцвело, были актеры — властители дум. Но то была стихия таланта — без общего замысла, без анализа и трактовки.
Даже Шекспира можно сыграть бессмысленно. К примеру, я видел «Отелло» в постановке труппы из ФРГ на театральном фестивале в Югославии. Вся трактовка сводилась к тому, что Отелло — какой-то необузданный мавританец, полуживотное. Говоря о трактовке, я имею в виду взгляд на Шекспира с высот нашего века, даже точнее — нынеш¬него десятилетия. Я говорю о Шекспире, прочитанном человеком семидесятых годов, который в его героях, в его ситуациях, в его философии обнаружил что-то ему столь близкое, столь знакомое, а часто столь удивительное и новое для себя, что пройти мимо этого нельзя. Но трактовка — это отнюдь не «осовременивание», когда достаточно смены длинных платьев на короткие и наоборот. Дело не в одежде, не в прическах — дело в сути! Ведь взаимоотношения Отелло и Дездемоны, Отелло и Яго, ревность, ненависть, коварство, любовь — извечны.
Конечно же, каждый режиссер подходит к любой пьесе индивидуально, лично, поэтому и рождаются на свет разные Дон-Жуаны, разные Отелло. «Отелло доверчив» — это пушкинская фраза, но ведь надо анализировать эту доверчивость, надо ее осмысливать. Так и рождается трактовка, и ее рождению мы прежде всего обязаны режиссеру.
То, что наши времена не родили ни одного Сальвини, ни одного Мочалова, ни одного Москвина,— это закономерность, закономерность развития, я думаю. Тот же «Современник» создавался как союз единомышленников, который вовсе не «звезды» оп¬ределяли. Собрались актеры, обуреваемые одной мыслью: говорить правду о своем времени. Ну, ко¬нечно, как во все времена в любой труппе есть более талантливые и менее талантливые актеры. Но если раньше говорили: мы идем сегодня на Сальвини или на Москвина, то теперь говорят — мы идем к Товстоногову, к Ефремову...
—Лев Константинович, суть, видимо, в том, что сегодня зритель, отправляясь на спектакль или киносеанс, внутренне настроен на восприятие проблемной картины жизни, где есть над чем подумать и поразмышлять. Последнее время много говорят о театре единомышленников, о режиссере, который объединяет труппу общими идеями, направлением и методом работы—все это входит в понятие школы.
—Что касается единомышленников, то я думаю, что по всем статьям это очень точное слово, сегодня отражающее положение дел в искусстве, хотя одно время над ним слегка стали подшучивать.
В театре, где есть ясная творческая программа, легче работать даже с точки зрения экономической, потому что режиссеру не приходится тратить время на объяснение многих вещей, они всем мгновенно понятны.
Студенческая школа, сколько бы она ни давала профессиональных навыков, не может все-таки создать актера, и часто студенты, которые блистательно закончили школы и институты, совершенно теряются, и, наоборот, те, которые, казалось, были не очень способными, через несколько лет в театре становятся замечательными артистами. Если много лет работать с одним режиссером и при этом разде¬лять его творческую программу, то он становится твоим учителем. Я думаю, Ефремов воспитал целую плеяду своих актеров, сформировал их как граждан, как художников, направляя их способности, их чувства в определенное русло. Таким же воспита¬телем и педагогом для меня стал Анатолий Васильевич Эфрос. У него своя школа, своя методология, своя система работы с актерами и, безусловно, свой путь в искусстве.
То, что наш театр держится на сочетании досконального психологического разбора и сгущенной театральности, определяет и стиль актерской игры. У Ольги Яковлевой, я думаю, каждый спектакль «Брат Алеша» и «Отелло» отнимает просто кусочек жизни. И, возможно, это жестокие слова, но актер¬ская жизнь и должна быть такой напряженной, вы¬матывающей, когда смерть на сцене кажется лучшей из смертей... И если кому-нибудь из актеров такого типа предложить другой образ существования, посоветовать не тратить себя, относиться к себе бо¬лее бережно, то, я думаю, многие отнесутся к этому совету, как к шутке. Актерская жизнь должна быть, как пружина, которая не дает ни на минуту остановиться внутренне. Жизнь современного актера проходит на сцене, в павильоне, в поезде, в самолёте, и надо повсюду успевать и не опаздывать. У меня, к сожалению, нет времени ни на что, кроме работы. Книжки я читаю ночами, а если и попадаю на час в лес, то считаю, что провел там месяц. По крайней мере пытаюсь себя так настроить.
—Лев Константинович, возможен ли, на ваш взгляд, по аналогии с театром единомышленников кинематограф единомышленников?
—Думаю, не только возможен, такой кинематограф существует. Конечно, прямых аналогий между театром и кино быть не может, время от времени кинематограф напоминает о том, что он причастен еще и к производству. И с этим нельзя не считаться. И все или почти все ведущие наши кинорежиссеры — и Герасимов, и Бондарчук, и Ростоцкий, и Кончаловский — стремятся к тому, чтобы создать долговременное творческое единство хотя бы на уровне триады: режиссер — оператор — художник. Заметьте, что вокруг таких режиссеров сколачива¬ется группа актеров, которые снимаются у них из фильма в фильм, как, скажем, Солоницын у Тарков¬ского, Купченко у Кончаловского, Тихонов у Ростоцкого. Есть и другой метод: снимать в фильме актеров одной театральной школы. Это уже залог ансамбля, какой-то художественной цельности фильма.
—Лев Константинович, вернемся немного назад. Вы, говоря о том, что режиссер трактует произведение, задает актеру психологический рисунок роли, направляет его. предлагает какую-то определенную схему развития образа, ничего не сказали об актере. Не стиснут ли актер режиссерским замыслом, не теряет ли он необходимое пространство для собственного свободного творчества?
—Ни в коей мере! Ведь мы если и связаны с режиссером какими-то ниточками, то они не спутывают нас по рукам и ногам — они привязаны к сердцу, к нервам, мозгу. «Век режиссуры> — скажем так — совсем не умаляет значения актера. Режиссер действительно намечает психологический рисунок роли, разбирает ее, определяет ее место в спектакле или в фильме, но это, скорее, «толчок» к творчеству, когда режиссер предлагает как бы «скелет» роли, а уж дело актера — превратить «скелет» в живого человека. И я абсолютно уверен, что в любой, самой жесткой режиссерской трактовке актер может проявиться очень сильно, просто для этого нужно быть внутренне подвижным. И нужно думать, думать!.. Это в равной степени относится и к театру и к кино.
Вот фильм «На ясный огонь». Там есть такая сцена: подпоручик Комаров, которого я играю, ждет, ревнуя, жену Анну. Наконец она появляется, и он начинает свой допрос: «Ты где была?» — «Я была... Ах, ты спрашиваешь, где я была, а ты лучше бы позаботился о том, что твоей жене нечего надеть...»— «Я тебя спрашиваю, где ты была?» — «Я была у тети».— «У какой тети?» — «У моей родной единственной тети».— «Я что-то не помню никакой тети».— «Ах не помнишь, вот до чего ты дошел, что не помнишь тёти. У тети была коза!» — «Вот козу помню, а тетю не помню... Ах да, я уже, кажется, вспоминаю, прости ради бога!» Вот и вся сцена. Наверное, ее можно было так и сыграть буквально: сесть и произнести весь текст. Но Зощенко — автор необыкновенный, непростой, позволяющий выходы неожиданные, резкие. Поэтому, не изменяя ему,„для этой сцены можно было найти решение какое-то, леобычное, парадоксальное. И мы сделали этот эпизод с многократными повторами слова «тетя», и при этом на фоне битья посуды: я разбиваю первую тарелку, и Анне, чтобы переплюнуть меня в темпераменте и напоре, нужно тоже колотить тарелки. Мы успокоились только тогда, когда перебили всю посуду вдребезги. Но добились того, что слово «тетя» начинает звучать как абсурд. И мне думается, что эта сцена, преувеличенная во сто крат, получилась по Зощенко, и мне как актёру было предоставлено достаточное пространство для углубления авторской трактовки.
—Лев Константинович, герои ваши всегда разные. Что помогает вам в каждом образе находить что-то новое, не повторяться? И еще: актерская практика свидетельствует, что актеры часто «дописывают» роли, как вы относитесь к этому?
—Актеры, конечно, много думают над тем, что¬бы не повторяться. Действительно страшно даже при всем разнообразии ролей скатиться на что-то одно, из фильма в фильм кочевать в одном облике. Но, видите ли, каждая профессия вырабатывает свои профессиональные навыки. Когда берешь читать сценарий или пьесу, то сразу же начинаешь прикидывать: вот это интересно, это нужно выделить, от этого танцевать... Сценарий, драматургический материал дает толчок для размышлений, для сопоставлений, часто рождает новые мысли, новые ощущения, какие-то соображения... Если, конечно, хороший сценарий. А потом нельзя забывать, что актеры все-таки «устроены» особенно: они более чувствительны, и эмоциональны, и более впечатлительны, у них особенная, я бы сказал, культура чувств, которая и позволяет неординарно, нетрафаретно подходить к образу, «пережить», прочувствовать его. При этом, конечно, используется личный опыт, какие- то воспоминания, какие-то собственные мысли о том или ином явлении.
Лично я всегда стараюсь относиться к авторам уважительно. Я не понимаю тех актеров, которые дописывают роли в прямом смысле этого слова или борются за какую-то реплику. Я доверяю автору: если бы он хотел написать что-то другое, он бы написал. Но ведь существует трактовка образа, и именно в ней актеру и дано проявиться. У Зощен¬ко слово «тетя» повторялось три или четыре раза, мы же с Дорониной произнесли его все двадцать, и не потому, что этих слов не хватало в тексте, там все было на месте, а потому, что наша трактовка ролей требовала именно такого абсурдного усиления.
—Лев Константинович, чего вы ждете от зрителя?
—Всегда, когда встречаешься со зрителем, надеешься на то, что будешь понят. И если зритель не понимает нас, не чувствует того, что мы хотели сказать, значит, наша задача не выполнена.
Вообще слово «драма» напоминает раскат грома, и, наверное, оно подразумевает какое-то потрясение, ведь маска древнегреческой трагедии выра¬жает то ли вопль, то ли крик. Значит, мы, драматические актеры, обязаны волновать, потрясать. Когда мне говорят, что публика ходит в театр от¬дыхать, я злюсь. Мне кажется, что люди должны ходить и в театры и в кинотеатры «работать», и это может стать куда более трудной работой, чем их повседневная. И, по-моему, только тогда, когда зрители после спектакля или фильма еще долго не могут заговорить о каких-то посторонних вещах, как после настоящего потрясения, тогда мы до¬стигли своей цели. Если же они уходят «отдохнувшими:», «ублаженными», то, я думаю, этот вечер для них почти пропал.
—Лев Константинович, вы получаете письма от зрителей?
—Я знаю, что многие актеры получают массу писем. Я же стал получать много писем после телевизионной картины, которая называлась «Странные взрослые», и, кажется, понимаю почему. Несмотря на то, что эта картина непритязательна и с точки зрения художественной не отличается каким- то первооткрывательством, в ней было то, что называют душевностью, человечностью.
Я знаю, что сама группа, приступая к работе, не рассчитывала на особенный успех. Говорили даже: ну вот, начинаем очередную серенькую картину, я точно знаю, что так говорили. Я был занят в другом фильме и сначала не хотел вести никаких переговоров, но мне подсунули сценарий, и я, прочитав его, сразу же бросился звонить режиссеру: «Вы, наверное, просто не знаете, что у вас в руках. Это замечательный сценарий». На том конце провода были, по-моему, удивлены, но обрадованы, что о сценарии есть какое-то другое мнение. Я сказал, что обязательно буду пробоваться.
— Чем же сценарий замечательный?
— В нем есть то, о чем раньше как-то даже и не говорилось. Дело ведь не в том, что пара бездетных людей берет ребенка из детского дома, так поступают многие. Но вот что меня задело: во взаимоотношениях с детьми урок получили взрослые. В этом сценарии меняются не столько дети, сколько взрослые, именно во взрослых благодаря детям рождается что-то новое или пробуждает¬ся старое, забытое. Эти люди, которые взяли девочку из детского дома, почувствовали, что не могут без нее жить, что они на мир стали смотреть совсем другими глазами; другой персонаж, писатель, общаясь с этой девочкой, стал духовно богаче, и от этого по-другому — лучше — начнет писать; третий герой взбунтовался против мещанской обстановки в доме... Взрослые как бы пересматривали себя, соскабливали жирок с души, становились чище. И после этого фильма, мне кажется, должен кто-то был по-новому взглянуть на своих детей.
Вообще задачи, которые стоят перед нами, актерами, не в том, чтобы научить тех же сталеваров лучше варить сталь. Для этого есть другие организации и учреждения. Наша задача в том, чтобы открыть связи, взаимоотношения между людьми. В «Странных взрослых» именно людские отношения стали основным объектом наблюдений и исследований. И письма, которые я получал в ответ на этот фильм, были очень благодарными.
Признаться, я ругательных писем не получал во¬обще, хотя, может быть, какие-нибудь мои работы этого и заслужили. Но, видимо, люди берутся за перо, когда их очень рассердишь или, наоборот, когда очень сильно обрадуешь. Но, кажется, я мо¬гу надеяться, что никогда ни разу сильно не рассердил.
—А вы отвечаете на письма?
—К сожалению, очень редко. И даже не знаю почему. У меня есть ощущение, что отвечать на письма-благодарности все равно что отвечать на поздравительные телеграммы. Тебе говорят: боль¬ шое спасибо, что сыграли хорошо, а ты отвечаешь: большое спасибо, что вы мне написали. Как-то странно. Хотя вот Юрий Никулин, я знаю, всегда отвечает. Возможно, что я тут не прав...
—Лев Константинович, у вас есть любимые роли?
—В кино каких-то любимых ролей нет, в театре — тоже. Больше люблю играть, например, в «Брате Алеше» или «Женитьбе», но больше, меньше — это градация несущественная. Когда я прихожу на другой спектакль, я все равно настраиваюсь на него, как на любой другой. А иначе нельзя. Иначе все рухнет. И я ужасно злюсь на партнеров, когда кто-то позволяет себе слабину или легкомыслие. Я считаю, что если актер и становится мастером, то он должен об этом забыть. Как это ни парадоксально, на наших глазах актер гибнет, когда начинает понимать про себя, что стал большим актером. В нашей профессии нужно оставаться ребенком, нужно каждый раз начинать заново... Вот вы спрашиваете, как я мыслю себе граж¬данскую позицию актера. Это такая ответствен¬ная фраза... Но мне кажется, что гражданская позиция актера, как и любого, впрочем, человека,— в честности. А честность эта выражается в постоян¬ной неудовлетворенности собой. Не дай бог посчитать, что, раз ты достиг чего-то,— значит, можно работать по инерции, на технике...
Когда я снимаюсь с Ульяновым или встречаюсь с ним на улице, когда разговариваю с ним, я всегда чувствую, какой он мятущийся человек. И это при том, что он достиг больших высот — он народный артист, общественный деятель. И тем не менее он всегда в творческих терзаниях. Не доволен собой никогда. Я знаю, он свирепеет из-за того, что ему не удалось что-то сделать до конца, у него желваки ходят, когда он говорит о том, что что-то недополучилось, у него вечное внутри горение. Он просто сам себя сжирает. Но я думаю, что это прекрасно. Я думаю, что такой актер — созидатель. Хотя, кажется, уж ему-то, Ульянову, чего не успокоиться? Что ему быть неблагополучным при всей его видимой благополучности? Но Ульянов от благополучности бежит как от огня.
Или Леонов. Он не просто из фильма в фильм снимается прекрасно, не просто демонстрирует блестящую технику, раскрывает характерность... Он в каждой роли выкладывается как личность, он до слова понимает, про что он говорит. И он раним, словно ребенок, на которого действует даже дуновение ветра. Во всех его ролях нет подделки, нет бутафории... Там все — истинное.
Быть созидателем, творцом, неуспокоенным, требовательным к себе, конечно, трудно. Но к этому надо стремиться всегда, иначе твоя работа, дело твоей жизни обессмысливается...